Д. Хэмилтон. «Только, чур, без поцелуев» Эпилог: Величайший менеджер всех времен... Даже если я сам так считаю
Пролог: Если бы только футбол мог быть таким веселым...
Эпилог: Величайший менеджер всех времен... Даже если я сам так считаю
Хронология/Благодарности/Об авторе
***
Понедельник, 20 сентября 2004 г.
Я сижу за своим столом в газете Yorkshire Post, просматривая копию расписания дневных новостей Press Association. Я являюсь заместителем редактора газеты, которая считается одной из самых престижных за пределами Лондона. Недавно газета отметила свое 250-летие. Кроме того, она (говоря футбольным языком) только что рассталась со своим редактором — факт, о котором пока не знает почти никто из сотрудников редакции. Проработав менее года в Лидсе, где базируется газета Yorkshire Post, я неожиданно обнаружил, что отвечаю за газету до официального объявления об уходе редактора и назначения нового редактора (которым, как я знаю, буду не я). У меня не так много времени, чтобы думать о чем-то еще.
Десятилетием ранее я решил завязать с написанием статей о футболе. Мне это надоело. Я не смог заставить себя досмотреть еще один матч, ни вживую, ни по телевизору. Я отменил подписки на все свои футбольные журналы. Я разобрал футбольные книги, которые собирался оставить — около 500 штук — и сложил их на чердаке. Остальные — еще 500 — отправились в местные благотворительные магазины или были проданы на деревенском празднике. Я не мог дождаться, когда смогу от них избавиться. Я начал читать газеты с первой страницы, а не с последней.
Один американский журналист однажды сказал, что освещение спорта — это журналистский эквивалент работы в «магазине игрушек». Он не принижал эту работу — это был его способ выразить удовольствие, присущее освещению спорта: ты можешь взять что-то относительно неважное, например, состязание между потными атлетами, и придать ему значение, намного превосходящее его реальную значимость; ты получаешь деньги за то, что наблюдаешь за событием с лучшего места; и самое главное, большую часть времени это чистое удовольствие — если ты не слишком увлекаешься и понимаешь, что спорт не имеет большого значения в огромной схеме вещей. Им можно просто наслаждаться. Что ж, я перестал им наслаждаться.
Какова бы ни была причина моего острого разочарования — высокомерные игроки, грубые, пренебрежительные менеджеры, клубы, которые встречали репортеров так, как встречали бы вспышку сибирской язвы — я решил, что больше никогда не хочу сидеть в ложе прессы или присутствовать на бессмысленной послематчевой пресс-конференции. Я не мог слушать, как очередной менеджер или игрок жалуется на судью или предлагает одно из тех несвежих, шаблонных описаний того, что я только что наблюдал на поле — о «парнях», «отдаче на 110%» и прочей ерунде из футбольной книги клише. Я не хотел спрашивать очередного игрока, как он себя чувствует, намерен ли он поддержать своего менеджера во время неудачной серии результатов (очевидно, он собирался ответить «да»). Я не хотел слышать, чтобы кто-то говорил мне, что командный дух «на сборе» хороший или «честно говоря, сейчас мы просто идем от одной игры к другой». Я, конечно, не хотел записывать ничего из этого.
Стиль футбольных репортажей стал казаться легкомысленным, а сам футбол — бессмысленно тривиальным. На мой ужасно желтушный взгляд, все в футболе были циничными, манипулятивными и гротескно хваткими. Исчезло очарование игры. Все в нем было сосредоточено на деньгах. Я не мог порадоваться приходу нового сезона. Кого волнует, какая команда выиграла Премьер-лигу или Кубок Англии? Не я, больше нет. Победители едва успели поднести фужер с шампанским к губам, как начался очередной сезон чемпионата, уже разыгрывались и проходили очередные кубковые соревнования. Футбол был слишком выгодной беговой дорожкой, чтобы когда-нибудь сбавить обороты. Лето, казалось, состояло из одной субботы в начале июня. Ты либо завершал один сезон, либо с тревогой готовился к другому.
Повседневная механика футбольных репортажей тоже изменилась. Ты не мог просто позвонить игроку домой: ты должен был пройти через агента, который хотел знать, какой угол зрения ты преследуешь и почему, и что может быть «вложено» в твою историю в интересах его клиента — обычно либо деньги, либо благоприятная реклама. Сотрудничество со стороны агента и игрока зависело от того или другого. И пока ты задавал самые банальные вопросы, эквивалентные боулингу с теннисным мячом подмышкой, тебя не начинали считать соглядатаем или нарушителем спокойствия. Избалованность и высокомерие опустились на футбол, как будто это единственный вид спорта, который имеет значение.
Я всегда интересовался политикой и искусством, особенно литературой. Я много лет собирал книги, и теперь мой дом был забит ими от пола до потолка. Будучи спортивным репортером ты становишься стереотипным. Уйти из спорта, чтобы писать о чем-то «серьезном», например, о политике или литературе — все равно что актеру из сериала взяться за Шекспира: все будут помнить тебя в прежней роли. Но если я собирался изменить направление своей карьеры, я должен был разорвать все связи, которые у меня были со спортивной журналистикой. Я бы не стал об этом писать, не стал бы об этом говорить. Я бы не стал — если это вообще возможно — даже читать об этом проклятом спорте.
Вот почему я перестал думать о Брайане Клафе. Упоминание его имени — даже предположение, что мне, возможно, придется пережить что-то из предыдущих шестнадцати лет, написав об этом или о нем — было достаточно, чтобы вызвать сжатие в моем желудке. Клаф принадлежал к прошлому, частью которого я больше не хотел быть.
Я знал, что он обиделся на решение — в котором, полагаю, он винил меня — не позволить ему писать разовую колонку для Nottingham Evening Post после его выхода на пенсию. Клаф хотел высказать свое мнение о будущем клуба. Он позвонил мне по этому поводу: «Приезжай сюда, мне есть что сказать». Недавно газета Evening Post была куплена другой газетной группой. Газета не хотела платить деньги, которые Клаф ранее получал за свои колонки, что было вполне объяснимо: гонорар за одну его колонку — около £500 — окупил бы пять или более колонок любого другого автора. Когда он перезвонил, мне пришлось рассказать ему об их отказе. Он ничего не сказал в ответ; все, что я услышал, это мягкий щелчок опущенной телефонной трубки. Обиды оставались с Клафом, как видимые шрамы. Обиды записывались и запоминались. Если ты перечил ему — или если он думал, что ты ему перечил — он отрезал тебя от своей жизни. Больше он со мной не разговаривал.
Время от времени я видел выступления по телевидению, которые лишь подтверждали медленное, печальное угасание Клафа. К шестидесяти годам он выглядел на десяток лет старше. Его волосы были такими тонкими и ломкими, что казалось, будто они выпадут, если их расчесать. Его глаза были запавшими. Казалось, ему нужны новые костюмы и рубашки, чтобы соответствовать его уменьшающейся фигуре. Его походка была неустойчивой, как будто он шел по палубе корабля во время небольшого шторма.
Но если ты слышал Клафа по радио, его голос был по-прежнему твердым и напористым. Можно легко обмануться, подумав, что это здоровый и энергичный человек, который говорит из кресла в своем кабинете со стаканом виски в правой руке и собакой у ног. Он не утратил своей комичности и, конечно, не утратил своей спорной жилки. Он все еще был способен нанести лобовой удар по кому-либо или чему-либо, что вызывало его недовольство.
Мне и в голову не приходило, что он может умереть. Если бы он это сделал, подумал я, ему было бы не меньше девяноста, и к тому времени он превратился бы в старого брюзгу, завернутого в одеяло в клетку. Я представил, как он кричит через холл дома престарелых на медсестру: «Эй, шайтан! Где мои таблетки?»
А потом, конечно, это произошло. Редактор новостей Yorkshire Post вошла в мой кабинет. «Ты слышал?» — спросила она очень тихо. На мгновение мне показалось, что она собирается сообщить мне личность нового редактора.
Я покачал головой. «Слышал что?»
«Я подумала, что лучше сама расскажу тебе. Sky News сообщает, что Брайан Клаф умер. Ты знал его довольно хорошо, не так ли? Я просто почувствовала, что тебе нужно знать, прежде чем ты выйдешь и увидишь это по телевизору. Я думала, ты расстроишься». Последовала пауза. «С тобой все в порядке?» — спросила она.
В тот же миг я увидел, как он идет ко мне, одной рукой отодвигая двойные распашные двери в коридоре «Ноттингем Форест», а другой зачесывая назад волосы. За ним шла его собака. Его лицо раскраснелось. Он был в своей зеленой толстовке и спортивном костюме. Я увидел, что он стоит передо мной, и услышал, как он сказал: «Ты опять здесь? Неужели я не получу от тебя ни хрена покоя? Тогда давай, тебе лучше зайти. Бьюсь об заклад, ты захочешь выпить».
Изображение растворилось, и я понял, что редактор новостей задала мне еще один вопрос. «Есть что-нибудь, что ты хочешь, чтобы я сделала? Я имею в виду, по поводу статьи?»
Я покачал головой и сказал, что подумаю и приду к ней в ближайшее время. Я встал из-за стола и выглянул из кабинета в сторону телевизора, который стоял на металлических шкафах для документов рядом со столом новостей. Лицо Клафа заполнило экран. Он смеялся. Картинка внезапно сменилась черно-белым кадром, на котором гораздо более молодой Клаф, лет тридцати, как я предполагаю, дает интервью в раздевалке.
Время остановилось. Я слышал стук собственного сердца, кровь стучала в моих ушах. Некоторое время я сидел один в своем кабинете и перекладывал перед собой бумаги и книги. Затем я снова стал их перекладывать. Я просмотрел публикацию Press Association о Клафе. Я вошел в интернет и проглядел первые сообщения на сайте BBC.
Когда я вошел в отдел новостей, там уже вовсю шли дебаты о том, сколько места мы должны уделить этой истории в газете следующего дня. «Я не уверен, что я лучший судья в этом, — сказал я. — Я слишком близко его знал». Главный редактор и копирайтер уговорили меня поместить новость о его смерти на первой полосе. Мы согласились опубликовать некролог на одной странице, благодарность на спортивной странице и краткую редакционную статью. «Вы уверены, что это не чрезмерно?» — спросил я, не зная, волнует ли Клаф кого-то, кроме меня.
Я зашел в освободившийся кабинет редактора, включил телевизор и начал переключать каналы спутниковых новостных станций. На «Сити Граунд» уже были камеры. К стадиону болельщики — некоторые из них были в слезах — прибывали с цветами и открытками или привязывали шарфы и послания к парадным воротам. Цветы возлагались с благоговением, как на могилу мученика. Болельщики с пустыми лицами толпились вокруг, не совсем понимая, что им делать, кроме как делиться друг с другом своей печалью.

У нескольких бывших игроков брали интервью. Я узнал Джона Макговерна, все еще подтянутого и аккуратного, и Кенни Бернса, его лицо и шея с возрастом стали толще. Позже я увидел Питера Шилтона, который, казалось, совсем не изменился. Другие бывшие игроки давали интервью по телефону, каждый из них был потрясен и подбирал слова, которые могли бы передать что-то глубокое о своем бывшем менеджере.
Большинство выразили одни и те же мысли. Он был гением... он был легендой... он был единственным в своем роде... такого как он никогда больше не увидишь... у него был «дар», который никто не может объяснить. Много одних и тех же историй было рассказано и пересказано: что он не возражал против того, чтобы игроки выпивали перед большим матчем... что иногда он пугал их до полусмерти... что в его присутствии ты никогда не расслаблялся как следует.
Основные моменты карьеры Клафа воспроизводились по бесконечной петле, как будто его жизнь проживалась заново. Там были монохромные кадры, на которых он был худым, атлетичным игроком, забивающим мяч в пустые ворота во время тренировки и прыгающим вверх, как ныряльщик на краю трамплина, после забитого гола за «Сандерленд». Стоячие трибуны позади него были заполнены, все мужчины были в кепках и шляпах, молодежь впереди размахивала деревянными трещотками.
Были и другие кадры. Клаф лает «Ты чертов позорник!» и «Это дерьмо!» с бровки в матче «Дерби». Клаф поднимается со скамейки запасных в Мюнхене после победы в Кубке чемпионов, поворачивается и непринужденно пожимает руку Питеру Тейлору. И намного постаревший Клаф, находящийся на ранней стадии своей пенсии, с поднятыми вверх руками встречает аплодисменты толпы, многие из которых были слишком молоды, чтобы жить, когда он выиграл один из своих чемпионатов Англии.
Было необычно наблюдать, с таким чувством неустроенности, за драмой, разыгрывающейся в месте, которое я так хорошо знал, но теперь был так отстранен от него. Это было все равно, что смотреть за знакомой сценой из-за толстого стекла. Ориентиры появлялись и исчезали: коричневые воды Трента, прожекторные пилоны «Фореста», фронтон поля «Ноттс Каунти» на «Мидоу Лейн» вдалеке, голубино-серый купол здания Совета, мрачные плиты рыночной площади под ним, синие и красные черепичные крыши центра Ноттингема.
Я мог представить себе бешеный ход событий в моей старой газете в Ноттингеме: повторная печать первой полосы, фургоны доставки, мчащиеся из типографии в Дерби, чтобы поймать пассажиров по дороге домой, совещание за конференц-столом, чтобы решить, что делать с траурным выпуском на следующий день. Я вспоминал эту сцену снова и снова, когда более получаса смотрел по телевизору одни и те же движущиеся изображения, читал и перечитывал баннер экстренных новостей в нижней части экрана: УМЕР БРАЙАН КЛАФ. ЕМУ БЫЛО 69 ЛЕТ.
Сочетание слов и фотографий должно было подтвердить мне, что он мертв. И все же это не казалось реальным. В любой момент, думал я, ведущий вдруг объявит, что на линии Брайан Клаф, который звонит, чтобы сказать, что сообщения о его смерти, как и сообщения Твена, были преувеличены. Я ожидал услышать этот голос снова. Когда час или два спустя новости наконец проникли в мой мозг и я начала их принимать, я задался вопросом, что бы он подумал о том, что сейчас говорят о нем.
Один из болельщиков призывал клуб установить памятник в его честь на стадионе. «Он заслуживает статуи», — сказал болельщик. Я начал смеяться, вспомнив, что сказал Клаф во время одной из своих яростных тирад против совета директоров. Все было как обычно — никто из «бесполезных ублюдков» ничего не знал о футболе, он им не «доверял», он с удовольствием «засунул бы их всех в лодку, вытолкнул в море и потопил».
И затем он сказал следующее: «Когда я уеду отсюда, все они будут стоять на улице и махать мне платочками с большими катящимися слезами из глаз. Как только я выеду с парковки, они возвратятся внутрь и закатят вечеринку. Некоторые люди скажут, что за то, что я здесь сделал, мне нужно поставить памятник. Что-то для голубей, на чем они могли бы посидеть. Памятник? Не смешите меня. Я точно знаю, что получу от совета директоров. И это не будет ни статуя, ни новые красивые ворота, ни даже фотография, висящая в коридоре, в которую можно бросать дротики. Совет директоров построит новый туалетный блок на главной трибуне и назовет его моим именем. Это будет шайтан-дом для дерьма».
Клаф начал ухмыляться и раскачиваться в своем кресле, как одна из тех смеющихся механических фигурок, которые можно встретить в безвкусных приморских игровых автоматах — опускаешь пенни в автомат и слушаешь, как он ревет. Он начал смеяться так громко, что у него начался приступ кашля, и в конце концов он достал из кармана спортивного костюма носовой платок, чтобы прикрыть рот. «Полагаю, — сказал он, когда пришел в себя, — если туалетный блок для меня слишком велик, я могу получить мемориальный бар Брайана Клафа где-нибудь на стадионе... но мне, вероятно, придется платить за свои напитки». Я хотел бы прошептать эту историю на ухо болельщику.
Другой болельщик, плотно обвязанный шарфом, сказал, что, по его мнению, «Клафи» уже сейчас распоряжается на небесах. Это заставило меня вспомнить наш разговор о смерти и умирании. Однажды рано утром во время предсезонного турне я застал Клафа сидящим в одиночестве в холле отеля. Он был одет в белую футболку и шорты. Его руки были сложены, ноги вытянуты.
За день до этого умер писатель Дж. Б. Пристли. Клаф взял у меня газету, уже более чем дневной давности, которую я купил с новостями об этом.
— Есть что-нибудь в газете? — спросил он, когда я передал ему газету.
— Не особо, — ответил я. — Только вот Дж. Б. Пристли умер. Ему было восемьдесят девять.
— Вот это удача, — сказал Клаф. — Большинство из нас хотели бы прожить так долго.... Черт возьми, с тем, как я себя чувствую сейчас, я не дотяну и до шестидесяти.
В то августовское утро мы вдвоем отправились на прогулку по улицам вокруг отеля. Клаф уставился в кобальтовое небо. Солнце уже припекало, и он позволил его теплу распространиться по лицу. «Какой великолепный день, — сказал он. — Небо голубое. Птички поют. Солнышко спинку греет. И не верится, что меньше чем через неделю или около того я буду торчать на скамейке запасных и кричать как сумасшедший, чтобы меня услышали. Эй, я, наверное, не в себе. Некоторые люди говорят, что я не в себе — и впервые я начинаю думать, что они правы. Когда выпадает такой день, он заставляет меня задуматься об уходе на пенсию».
Я рассказал ему об ответе, который Джимми Сиррел давал мне всякий раз, когда я начинал разговор с фразы «Хороший денёк, Джим».
Клаф улыбнулся. «Старый добрый Джим. Он еще больший сумасшедший, чем я».
Так мы перешли к нашему краткому разговору о смерти. «Все будет не так уж плохо, — сказал Клаф, — если ты снова увидишь своих маму и папу. Эй, я бы с удовольствием посидел с ними. Еще раз поговорил бы с ними. Рассказал бы им, чем я занимался. Если рай — это коллекция твоих любимых вещей и любимых людей, ты не захочешь переезжать, не так ли? Возможно, ты не захочешь больше смотреть ни одного футбольного матча. Тебе захочется просто посидеть и поболтать с теми, кого ты любишь или любил больше всего. Или посмотреть крикет в такой летний день, как этот...».
Он спросил меня, верю ли я в загробную жизнь. Я сказал, что надеюсь, что смогу прочитать все книги, которые еще не были опубликованы, и смотреть любой вид спорта, который мне нравится. Он ничего не сказал в ответ. Только когда я прочитал первую автобиографию Клафа, я узнал, что он считал, что рая не существует. Я не поверил в это и предпочел версию, которую он озвучил тем утром.
Когда умерла моя мать, он выразил мне свои соболезнования. «Тяжелее всего потерять маму. Ты никогда не сможешь смириться с этим. Но ты справляешься, как можешь... как и со всем остальным в жизни». Он никогда не забывал голос собственной матери, говорил он, или то, как он рос в доме, который она убирала до блеска. «Все на нашей улице были неравнодушны к парадной лестнице. Она должна быть безупречной. Наша была самой безупречной из всех. С нее можно было бы съесть свой обед. Для нашей мамы она была предметом гордости». Я сказал, что помню, как моя собственная мать делала точно так же.
«То, что происходит в доме, влияет на тебя всю оставшуюся жизнь, — продолжает Клаф. Нашу семью (у него было пять братьев и три сестры) воспитывали хорошие, порядочные, трудолюбивые родители, которые научили нас уважению, вежливости и тому, как вести себя в обществе. И тебя обнимали, когда ты приходил домой из школы. И ты знал, что твоя мама будет ждать тебя. И ты знал, что если переступишь черту, то получишь за это от отца. Да, я так горжусь тем, как меня воспитали — правильно».
Когда я наконец покинул кабинет редактора и вышел на редакционный этаж, репортер спросил меня, сколько времени я провел с Клафом и каким он был. «Он был похож на моего отца», — сказал я с неуклюжим насмешливым ноттингемским акцентом, который, как я надеялся, скрывал значение ответа.
Я не слишком глубоко вникал в это раньше, но это было правдой. Временами, во всяком случае, он был мне как отец — или, по крайней мере, раздавал отцовские советы, как половник супа. Когда я сказал ему, что покупаю свой первый дом в возрасте двадцати двух лет, он ответил: «Это лучшее, что ты можешь сделать со своими деньгами». Это доказывает, что ты не такой тугодум, каким кажешься. Но выплати ипотеку. Банки оберут тебя до нитки. Поставь себя в положение, когда ты им ничего не должен — и сделай это как можно быстрее. Если ты не можешь сделать это так, как я — уволиться через сорок четыре дня и уйти с большим чеком — просто сэкономь столько фунтов, сколько сможешь».
Когда я сказал ему, что скоро стану отцом, он сказал следующее: «Не забывай, что все, что ты делаешь, отразится на твоем ребенке. Ты должен впервые в жизни начать действовать ответственно. И делать свою часть работы по дому. Не позволяй своей жене делать всю работу, когда ребенок возвращается из школы. Когда она еще маленькая, вставай посреди ночи. Корми её, меняй подгузники. Наш Саймон (его старший сын), когда он был маленьким, всю спину мне изгаживал. Я помню, что было так холодно. Но, эй, вот что значит быть отцом...».
И когда вскоре после смерти моей матери тяжело заболел мой отец, Клаф настоял на том, чтобы я проводил с отцом как можно больше времени. «К черту работу. Семья превыше всего. У тебя много времени, чтобы сесть за печатную машинку и писать всякую ерунду. Но время, которое у тебя есть с отцом, драгоценно — и ограничено».
Мой собственный отец всю жизнь провел в темноте, согнув спину, выколачивая уголь. Я наблюдал, как он каждый день отправлялся на автобус, на голове у него была клетчатая кепка, бутылочно-синяя куртка из ослиной шерсти свисала с его крепкой фигуры, а через плечо висела выцветшая холщовая сумка. Когда он приходил домой, его одежда воняла углем, а корявые пальцы и твердые ладони были испачканы черным, накопленным за всю жизнь нагаром, который так въелся, что никакая помывка не смогла бы их как следует очистить.

Его отец и дед тоже были шахтерами. Мой отец рассказывал о спуске из шахтной клетки в этот подземный мир («как утопление», — говорил он), где люди теряли пальцы или конечности, и многие — слишком многие — погибали. Он видел, как умирают люди, и однажды собирал куски разбитого трупа. Но он принадлежал к сдержанному, стоическому поколению, которое терпело свой удел, не жаловалось, не суетилось и держало свои эмоции при себе. Он был хорошим, но неразговорчивым человеком, который не часто обнародовал свои личные мысли, даже мне.
В неделю смерти Клафа, когда воспоминания, которые я спрятал в коробку, как многие из моих футбольных книг, в спешке вернулись, меня поразило, что я понимал этого странного, известного, популярного человека гораздо лучше, чем своего собственного отца. Я путешествовал по миру вместе с Клафом, сидел рядом с ним, наблюдал, как он работает. Мы пили виски в больших бокалах. Я видел, как слава и ее удушающие ожидания подточили сначала его кожу, а затем и дух. Мне не нужно было объяснять его слабости: я видел их вблизи, без прикрас.
Мой отец, обладая той смесью скромности и самодовольства, которую могут демонстрировать родители, был скорее закрытой книгой. Он держал себя в одном из труднодоступных мест. В нем было много такого, чего я никогда не узнаю. Но я мог бы достать с библиотечных полок дюжину хорошо затертых папок желтовато-коричневого цвета и измерить жизнь Клафа в сантиметрах столбцов — каждая газета как тонкий ломтик его жизни. Вырезки, некоторые из них пожелтевшие и ломкие, показывают человека, абсолютно убежденного в своем месте в мире, в своей значимости в выбранной профессии. Через них я мог услышать его голос, представить себе мимику и экстравагантные жесты рук, которые сопровождали его. Ужасно было думать о нем в тот самый момент, застывшем в больничном морге, с закрытыми глазами и неподвижными пальцами.
Я думал о смерти своего отца. Я ненавидел больницы — ненавидел их запах, недружелюбное эхо сирен скорой помощи и скрипучие тележки, низкие потолки и темные стены, которые грозили сомкнуться вокруг тебя. Мой отец умер в больнице Северного Тайнсайда в палате, которая была сурово белой: белые стены, белые простыни и белоснежное покрывало, аккуратно сложенное на краю тонкой кровати. Сильный солнечный свет превратил окно в прямоугольник белого света и сделал комнату неуместно светлой. Белая ширма была открыта, как мехи концертино, и оставлена стоять посреди комнаты. Рядом с ней на стуле с металлическим каркасом лежали две пухлые белые подушки. Мой отец тоже был белым, слабые очертания его тела едва виднелись под плотной простыней, натянутой почти до подбородка. Казалось, что на подушку положили лишь его отрубленную голову. Плоть отделялась от костей. 76-килограммовый человек исчез, а его место занял 44-килограммовый.
Сначала я не узнал его; мне показалось, что я зашел не в ту комнату. Я тихо позвал его, словно ожидая ответа, подтверждения того, что лежащая передо мной фигура действительно мой отец. Я пристально смотрел на него, пытаясь связать его морщинистые черты с воспоминанием о том, когда я в последний раз видел его здоровым. Его волосы были расчесаны, но лицо было небрито, а кожа выглядела восковой, как будто бальзамировщики уже сделали свою работу. Глаза моего отца были закрыты, а его рот был открыт и превратился в черный овал. Время от времени из его горла вырывались тихие хрипящие и задыхающиеся звуки. Первые два пальца его правой руки подергивались, как будто он был взволнован, и я взял их в свою руку. Я начал разговаривать с ним, рассказывая новости из дома. Раздосадованный, я метался по крошечной комнате.
Я не хотел, чтобы последние часы Клафа — или кого-либо другого — были похожи на последние часы моего отца. Клаф активно выступал в поддержку таких шахтеров, как он. Во время забастовки шахтеров в середине 1980-х годов он собирал для них деньги, выступал с речами, даже жертвовал свои собственные деньги, не придавая это огласке. Я был в его кабинете в тот день, когда к нему пришла группа шахтеров. «Брайан, — сказал их представитель, — мы не можем отблагодарить тебя за то, что ты сделал. Как много значит твоя поддержка».
Клаф поднялся со своего стула и пожал руку каждому шахтеру. «Парни, — сказал он, — за то, что вы делаете, эта страна обязана вам жизнью. Вы не заслуживаете того, что происходит с вами сейчас. Все шайтаны, которые против вас... пусть спускаются в шахту на несколько смен. Примут немного угля в свои легкие. Пусть Мэгги [Тэтчер] пойдет. Она не продержалась бы и пяти минут. Она даже не стала бы подметать свой собственный камин — если бы он у нее был». Он повернулся ко мне. «Эй, отец этого парня был шахтером. Он знает, что всё, что я говорю, правда».
Когда шахтеры ушли, Клаф сказал мне: «Всегда поддерживай рабочего человека. Такие люди, как твой отец, сделали для страны больше, чем любая кучка толстозадых политиков. Просто помни об этом, когда будешь разговаривать с ним или когда тебе покажется, что он немного устал и у тебя есть дела поважнее, чем навестить его».
После того как я покинул офис в день смерти Клафа, я вернулся один в свою съемную квартиру в центре Лидса. Квартира находилась на третьем этаже унылого современного бетонного здания. Раковина была полна посуды, а гостиная завалена книгами — на подоконнике и по всему полу — и неровными стопками газет и журналов. На моем столе в углу лежали ворох бумаги, разные ручки, немытые кофейные чашки и ноутбук.
Я включил ноутбук и начал стучать по клавиатуре, записывая случайные впечатления дня. Поздний выпуск новостей все еще передавал фотографии из Ноттингема, и я мысленно представил себе город, как он выглядит с самой высокой точки: сложное перекрестное начертание дорог, улиц и узких переулков; блоки и кубы магазинов и офисов; уродливая приземистость замка на своей глыбе песчаника. Я думал о движении транспорта по улицам, как темная кровь по венам. Я почувствовал укол тоски по дому и ощущение — в который раз — что я оказался не в том месте. Я должен был быть там.
На следующее утро я собрал все национальные газеты и прочитал некрологи и благодарности. Мэтт, художник газеты Daily Telegraph, нарисовал надгробие с такой надписью:
Брайан Клаф 1935–2004
ВЕЛИЧАЙШИЙ МЕНЕДЖЕР ВСЕХ ВРЕМЕН, ДАЖЕ ЕСЛИ Я САМ ТАК СЧИТАЮ
Прошел конец недели, прежде чем я смог навести хоть какое-то подобие порядка в своих воспоминаниях. Затем я начал прорабатывать их, устно пересказывая каждую из них.
Измотанный стрессами и нагрузками той недели и с облегчением от того, что последние несколько дней закончились и впереди выходные, я рухнул, как подкошенный, на диван в доме моей подруги. Она протянула мне бокал белого вина, и мы начали говорить о Клафе. Или, по крайней мере, я начал. На самом деле, я не мог перестать говорить.
По мере того, как я говорил, движущиеся картинки появлялись из темноты, куда я их так давно отправил. Они летели на меня целым потоком. Я видел и первую встречу с ним, и последнюю, и все, что произошло между ними. Игры, которые я смотрел, пролетали передо мной. Я сделал свое впечатление — плохое — от его голоса.
Я не чувствовал, как слабые слезы бегут по моим щекам. Я вытер их основанием ладони, чувствуя себя глупо и неловко. Но я продолжал говорить и смеяться над многими историями. Мы открыли еще одну бутылку вина, затем третью. И вдруг наступило раннее утро.
Когда я проснулся через несколько часов, все эти разрозненные отдельные образы слились в единое целое, и я вдруг понял, что был неправ.
Спорт гораздо важнее, чем я когда-либо придавал ему значение, и спортсмены имеют большее значение в повседневной жизни, чем девяносто девять процентов пустомелей политиков. Ред Смит, лучший спортивный писатель своего поколения и большинства других, считал, что «спорт — это жизнь» — и я не могу с ним не согласиться. Он может привести людей в восторг, как прекрасный весенний день. Он может убедить людей отождествлять себя с ним и с теми, кто в нем участвует, так, как это могут сделать немногие другие вещи. Он важен. Он остается с нами, как герои великого романа.
Доказательством тому служат открытки, прикрепленные к многочисленным букетам цветов, оставленным у «Ноттингем Форест» после смерти Клафа. Одно из сообщений гласило: «Мы будем скучать по тебе». Ты знаешь, что тот, кто это написал, имел в виду то, что говорят, потому что простое красноречие этих пяти слов передает глубокое уважение, возможно, любовь. Со своей стороны ты не можешь требовать большего.
Некрологи Клафа были уважительными и написаны с искренним сожалением о том, что он позволил алкоголю лишить его многого. Каждый автор представил свою собственную виньетку, личную историю, которая демонстрирует притягательный гений и темпераментную причудливую фигуру, которой был Брайан Клаф.
Каждая история, по-своему непохожая на другие, подчеркнула для меня одно: в биографии нет абсолютной правды, есть только суждения. Каждый объект позирует, обрезается и кадрируется, словно в серии фотографий, запечатлевших целую жизнь отдельных, застывших моментов. Как биограф, ты создаешь произведение, которое честно и точно отражает то, что ты видел, что тебе рассказали, что ты почувствовал или узнал об объекте. Ты пытаешься соединить различные точки жизни, создавая картину, которая учитывает интерпретацию и оценку других людей, видевших вещи с разных точек зрения. И ты можешь внести свой вклад только в понимание того, о ком идет речь. Ты не можешь быть однозначным.
Что касается Клафа, то до сих пор трудно разобраться в сложной схеме его личности. Он был похож на матрешку — множество других Клафов, скрытых под тем, который представлен на всеобщее обозрение. Противоречия в нем искажают общий образ. Он всегда находится в недосягаемости — что, я полагаю, и было его целью. «Каким он был на самом деле?» — этот вопрос мне задавали чаще других. Я до сих пор не знаю, но я знаю, что никогда нельзя сказать последнее слово о таком человеке, как он: для этого он был слишком загадочным.
Возможно, Клаф-человек и не нашел бы места в сегодняшней корпоративной Премьер-лиге, но тем хуже для его бескомпромиссной страсти, его нетерпимости к бюрократии и чепухе и его безостановочных атак на то, что не так в футболе и почему. Самый большой комплимент, который мы можем сделать ему, это перефразировать чувства, которые Вордсворт выразил о Мильтоне: «О, Клаф! должен жить ты в эти годы!» Но, конечно, в каком-то смысле это так. На самом деле, кажется, что он был здесь всегда. Невозможно пройти футбольный сезон, не услышав его имени, не прочитав, как другой писатель цитирует его слова, или как менеджер передает дух его игры или пытается, как он, достичь глазурированного совершенства.
Ред Смит хорошо выразился на этот счет. «Умереть — не страшно, — написал он. — Кто угодно с с этим справится. А жить — вот в чем вся соль».
Брайан Клаф жил. Он живет и по сей день.
***
Хотите поддержать проект донатом? Это можно сделать в секции комментариев!
Приглашаю вас в свой телеграм-канал, где только переводы книг о футболе и спорте.














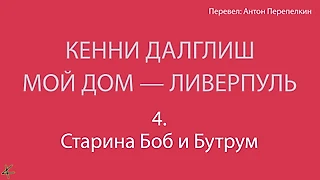


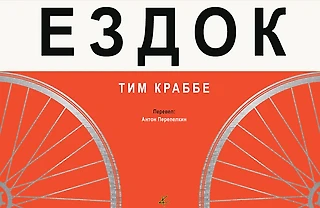
Сколько раз, за последние пару месяцев я приводил примеры из его жизни и НФ, проводя параллели с текущими ситуациями в современном футболе.
А концовку этой главы оставил в закладках, чтобы цитировать ее регулярно:
«Я? — ответил он. — Я просто гуляю и выпиваю».
Спасибо за перевод.
З.ы. книжка есть а оригинале, но я бы и русский вариант купил с удовольствием.