Кинорулетка #5. Солнце неспящих
Грузинское кино удивительно тем, что над ним получается и смеяться, и плакать одновременно. «Солнце неспящих» - в моей категории фильмов «маст си».
- Вот это Гомер. Шестой год болеет. Давно должен умереть. Как он, по-твоему, себя чувствует? Ты бы видел его анализы. Ему лучше. Это Аристотель (Ты его знаешь). Он уже выходит из кризиса. У него такие успехи, метастазы совсем рассосались. Вот Платон. Кант. Фрейд. Шопенгауэр. Спиноза. Гегель за твоей спиной. Они живы. А это Пеле.
- Почему Пеле?
- Потому что он наполовину черный.
- А остальные, значит, сильны в философии, да?
Этот диалог - не из палаты №6, а из лаборатории врача-энтузиаста Гелы Бенделиани, работающего над созданием вакцины от рака. Его пациенты – крысы. Пеле – крыса редчайшего черно-белого окраса («одна на миллион»). Она окажется самой живучей из всей этой подопытной компании "крыс-философов".
- Ну и как твои опыты, папа?
- Идут к концу.
- Сколько я себя помню, они всё идут к концу.
Неповторимый колорит грузинских диалогов требует отдельного реверанса.
- Аристотель умер. Мучился. Но в последние дни чувствовал себя уже хорошо. Он вылечился. Он был абсолютно здоров, когда умирал. Я вскрыл его – ни одной метастазы.
- А что же случилось? Покончил собой?
22 года врач "Скорой помощи" Гела борется с раком. Уже никто не верит в его успех. Гела – идеалист, чудак, белая ворона, изгой – и среди коллег ("25 предупреждений в личном деле и 11 выговоров"), и среди соседей по дому. Да и семья – далеко не вся на его стороне….
Режиссер Теймураз Баблуани снимал фильм семь лет – с 1985 по 1992 гг. Его отец тоже был врачом, и эту (со слов самого режиссера) "лирико-эпическую исповедь" он посвятил ему. Перед нами постсоветский Тбилиси – угрюмый, бедный, замусоренный, разобщенный, в воздухе пахнет хаосом, ненавистью и набирающим обороты криминалом. Недаром фильм практически монохромен, настолько тусклы краски. Люди разобщены. Ноль градусов эмпатии. Доброта, помощь незнакомому человеку воспринимаются как отклонение или юродивость. К старушке-склеротичке, потерявшейся в столице, подлинное сочувствие проявляет лишь один Гела. Он-то и поселяет ее у себя в доме….
Вообще, в фильме столько отдельных ярких самодостаточных сцен, что по каждой из них можно было бы смело снимать короткометражку (в чем грузины очень сильны) – я так и представляла их себе при просмотре.
- Здесь живет Нураб Накашидзе?
- Ваш брат давно умер.
- Ты смотри на этого негодника!
Смею предположить, что старушка, потерявшая память, была введена в картину как отображение психического состояния целого народа, разобщенного этнической и гражданской войной. Сильный образ получился. Но мрачные нотки – всегда вперемешку с потрясающей иронией.
- Она родом из Сухуми.
- Так отвезите ее туда.
- Она ни за что не хочет жить в Сухуми.
- Много она понимает, где она – в Сухуми или в Тбилиси.
Сын Гелы Дато – полная противоположность отцу, будто рожден для того, чтобы или сидеть в тюрьме, или держать/наносить удар в бандитских разборках на воле.
- Я всегда удивляюсь, когда его ругают. Лично я ничего такого плохого в нем не замечаю.
- Ты не видишь, как выглядишь смешным, папа?
- Во всяком человеке есть что-то, за что можно любить или жалеть. Никогда не спеши выносить приговор.
В картине немало символизма и аллегорий, к которым любят прибегать грузинские мастера кинематографа. В сцене, где недовольные лекарством Гелы хамовитые пациенты, требуют вернуть деньги за лечение или что-то дорогое взамен денег, дочка Гелы говорит:
- Берите взамен цепочку. А крест останется с нами.
И он с ними остается. Но нести его приходится до конца одному Геле. Несмотря на всю свою блаженность (почти врач-Христос) и чудоковатость, он оказывается необыкновенно цельной личностью, глыбой, монолитом. Появляется ощущение, что врач, ищущий вакцину от рака, находит прививку от метостаз души. По крайней мере, на его сына Дато, считавшего, что в жизни всё можно взять только силой, она начинает действовать... и он уже смотрит на отца другими глазами. В глазах загнанного волчонка появляется сопереживание и чувство сопричастности Делу отца.
Для меня кульминационной стала мезансцена в больнице. Не буду спойлерить, скажу лишь, что сцена шокирует (И она совсем не единственная в фильме, производящая эффект очистительного фильтра). Она стала одновременно и апофеозом самоотречения ради науки, и сублимацией невосполнимой Утраты, когда труд всей твоей жизни разбивается вдребезги. Но и тут Гела оказался на какой-то заоблачной недостижимой для простого смертного высоте…. А последний эпизод этой мезансцены вызывает настоящее смятение чувств, где трагедия граничит почти с абсурдом. Гела обращается к сыну с просьбой:
- Сынок, мы с тобой никогда вместе не пели….
И он затягивает свою песню, которая проходит лейтмотивом через весь фильм. А сын сначала робко, а потом всё громче начинает подхватывать. Ну что сказать? Когда вы поймете все подробности, то, надеюсь, ощутите то же, что и я: момент был настолько неожиданен и так тонко обыгран, что я и плакала, и смеялась одновременно....Когда захлёстывают такие мощные эмоции, значит, кино сотворило маленькое чудо.
Музыка к фильму, композитор Теймураз Баблуани:
P.S. Награды:
Премия МКФ в Берлине "Серебряный Медведь" за выдающиеся художественные достижения (1993 г).
2 «Ники» — за сценарий и мужскую роль (Элгуджа Бурдули).
Главный приз в конкурсе «Кино для всех» («Кинотавр-92»).
Фильм "Солнце неспящих" обошел главного конкурента - картину "Урга" Никиты Михалкова, который был так раздосадован, что отказался на долгое время участвовать в церемонии "Ники".
Дважды P.S. Я вспомнила одно забавное совпадение, объединяющее картины "Солнце неспящих" и "Урга". Просто проиллюстрирую их кадрами из этих фильмов.
"Урга"
- Брат из Америки свою фотографию прислал. Видишь, как похож!
"Солнце неспящих"
- Ну и рожа! Вот бы с ним подраться! Кто лучше - я или он?
- Конечно, ты, - кто он такой?


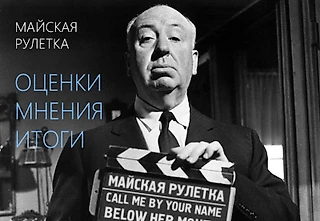

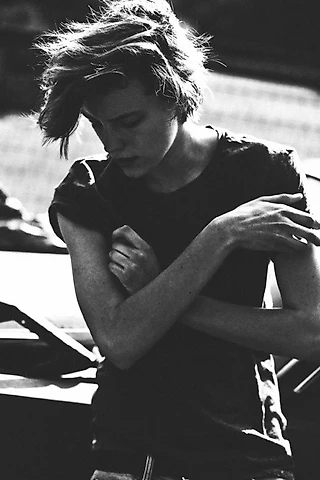
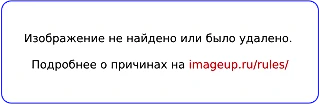
Ты хочешь сказать, что память у меня какая-то не девичья?)
Нет. Это привычка с журфака – оставлять заметки на полях про всё интересное увиденное-услышанное. Мой друг склероз не даст соврать)).
Хе, у меня есть знакомые журналисты, кто хвастался всю дорогу что книг и газет не читает)))
по следам дорогим
остаюсь
подбираю
с теми, кого добротой утешаю
дом мой - весь мир
и я в нем - не чужой
он наполнен иронией и тем, на что глаза закрывают
найти свой уют
всем сердцем желаю
куда следы приведут
известно - все знают
не успеть всем помочь
и продолжить сначала
не сдаваться, идти -
неспящих солнцем исцеляя
Второй раз у меня получился полностью другой - все прекрасно собралось, получилось "зайти" туда как на машине времени слетать в Грузию 90х, пожить в семействе доктора рядом с пристроенной бабусей, и хлебнуть прямо вот лично их непростой житухи...
Больше всего трогает линия отец-сын. То как отец все видит (он очень расстраивается, что сын уже уголовник-то по сути), но как же хватает у него сердца не отказываться от сына. Это такая зрячая мягкость, когда он ему говорит "совсем ты обо мне не думаешь", и это единственный упрек сыну в колонии. И дальше, как не пытается он долбить своего оболтуса за его выборы, за его опыт, понимая, что тот должен их получить, должен жить свою жизнь, такой какая она получается, и что надо его просто принимать, впускать в свою жизнь, не выгонять из нее, не ставить клейм и ярлыков.
В конечном итоге становится ясно, насколько они похожи - сын такой цельный, и оба с кардинальными характерами максималистов, так что прекрасно понимают друг друга на очень глубоком уровне. Кстати, сын мне по первому разу показался уродом таким.. а на второй я вдруг увидела, какой это красивый парень - во как бывает, когда получается попасть в фильм как в портал, специально для этого созданный.
В целом, конечно глубоко христианское произведение - не по букве, по духу. Доктор же вроде даже религиозной философией интересуется - как он там грит, "Когда при нем били человека, у Кришны появлялись раны на теле" - да тут пофигу, кришнаит наш доктор или православный, дело не в конфессиональной принадлежности, а в чем-то большем, в принадлежности к универсальной религии, где главное - любовь людей друг к другу, а не какие-то смешные условности в ритуалах и том, какое имя Бога самое правильное.
И в этом смысле "Солнце неспящих" такая вещь, что посильнее и тленного Фауста, и даже чисто религиозных текстов - в смысле простоты приобщения тебя к человеческому опыту и такому опыту, который ты можешь соотнести с собой. Как-то у меня была знакомая, которая утверждала, что только священные писания дают представление о Создателе, о главных ценностях, но я не могла с этим согласиться. Приводила в пример книги Бориса Васильева про войну, для меня как раз про самую суть христианства, когда сам погибай, а ближнего выручай, но нет, она говорила - светское искусство это ложь, а ВОВ была послана России как наказание на Октябрьскую революцию... Понятно было, что дальше спорить не о чем.
Еще был друг-баптист, который тоже считал, что только Евангелие является трудом, который передает суть христианства. Так-то оно так, только вот я не могу с этим согласиться. Такой подход слишком обесценивает человека, и искусство, делает по сути совершенно бессмысленным все потуги людей что-то понять, записать и выразить через личный опыт. А ведь только личный опыт имеет смысл
Оля, можно немного шире. Просто в самих Евангелиях (или в целом, в Библии) много сюжетов, мотивов, притч (ставших впоследствии «бродячими»), которые впитало европейское искусство, литература, кино…. И придумать тут что-то принципиально новое – довольно сложно. Как там у Хармса – «Я думал о том, как прекрасно всё первое!». Есть, конечно, в той же литературе и первооткрыватели, новаторы, пророки, как обэриуты, Хлебников, например, или Платонов, в живописи – тот же Малевич (пусть и условно он - до него тоже квадрат рисовали, но я щас не об этом)… Но. С другой стороны, большое искусство это все-таки не цирковая программка, требующая постоянного обновления. Для глубокого осмысления и полноводья чувств новизна не нужна. (То есть интересно, конечно, когда что-то получается новое и свежее, но это не главное). А нужно нам именно то, о чем ты говоришь: пропустить предложенный сюжет через авторское видение, через его мировоззрение, через его опыт и посмотреть, какой след/свет он оставит в тебе. А так я с тобой согласна на все сто. Тот же, к примеру, «Маленький принц» - гимн христианской любви ( и Экзюпери спецом посвятил его своему другу-атеисту).
В "СН" что нравится особенно - что ветхозаветная жестокость сына побеждается евангельской широтой отца, и на таком простом очень недогматичном случае из жизни вдруг понимаешь разницу между этими эпохами в религиозной философии
Я бы вот чего-нибудь хорошего из современного грузинского кино посмотрела, а то у меня все познания закончились на советской грузинской классике.
---------
Вот Саше это резануло.. мне по первому просмотру тоже. Но потом я увидела, что эта именно та правда жизни, которая здесь быть должна, и которую я вдруг смогла понять - откуда в сыне была эта агрессия.
И вот еще сравнение, которое в этой Руле само собой напрашивается. В "Левиафане" вроде бы правды жизни завались, и при этом все - ложь. Актеры врут каждым словом халтурного сценария, метафизики вообще никакой. И та что есть - именно что ветхозаветная, про Яхве которому только в кайф смотреть как мучаются людишки, про чудищ из моря, и чудищ из душ людских. Но я как бывший житель маленького поселка, где еще и не такие истории случались, совершенно точно знаю, что как есть великое зло, так есть и великое добро, и все это соседствует в мире рядом. А в фильме только Зло. И кажется мне, что это отражения души автора, и фильм к сожалению меня в этом только убеждает каждый раз
Попал не под настроение, но все равно попадает в мою кинокопилку.
Фильм и иронии полон. Простите, если подберу не верное сравнение: ирония долматовская. Бытовая такая, житейская.
И рождается такая ирония на грани гениальности и боли.
Очень колоритное кино. Некоторые сцены просто рвали на клочки.
Для меня стало минусом то, что шумный фильм - горячие герои, говорящие громко и перевод сухой и ровный.
=Для меня стало минусом то, что шумный фильм - горячие герои, говорящие громко и перевод сухой и ровный.= Ну чтоб грузины да не пошумели..... не видела такого). А мне наоборот перевод и озвучка хорошо легли. Текст читал поэт Михаил Квливидзе. Он же озвучивал кинотрилогию Абуладзе, мне его голос уже знакомый был.
https://www.youtube.com/watch?v=1majFeE6T2M
Едва все началось, я вспомнила, что уже видела этот фильм - в детстве, с бабулей и дедулей, причем белорусскими. Помню, что дед осилил полчаса максимум, и тяжело вздохнув, ушел со словами "Грузинское кино!" - а грузинское он не любил, оно ему скучным казалось
Мы с бабушкой остались, и вполне себе до конца досмотрели, так что саму историю я запомнила хорошо - и святого доктора, и его сына хулигана, и лабораторных мышек, которые туда-сюда постоянно разбегались. Стала смотреть в этот раз и картинки уже покойных бабушки и деда перекрыли все, и фильм пролетел мимо, не собравшись в какую-то цельность, многие куски, как показал пересмотр на другой день, я просто пропустила, и вообще "не вошла" в картину
Чуть позже - о второй попытке )