В Вышке преподает железный человек: ходит 220 км на лыжах, ловил галлюцинации от усталости, спал на снегу в 30-градусный мороз
Интервью Головина.

Сергей Медведев – журналист, историк и преподаватель Высшей школы экономики, одного из главных вузов современной России. В Вышке Медведев читает авторские курсы по политологическим дисциплинам и занимается исследованиями, многие из которых цитируются за пределами России. Еще он критик президента Путина, хотя во время первого срока поддерживал его. В 2013-м Медведев в комментариях в фейсбуке предложил отдать Арктику под международную юрисдикцию, раскритиковав планы России по экспансии в регион. За это Путин назвал его придурком.
Вторая часть жизни 52-летнего Медведева – спорт. Каждый год он участвует в десятках забегов, лыжных ультрамарафонах, жесточайших триатлонах и велогонках.
Александр Головин встретился с Медведевым и поговорил о двух любимых вещах – спорте и политике.
Падения, Нетребко, оползни
– Видно, что еще недавно на правой руке у вас была содрана кожа. Что это?
– Асфальтовая болезнь, как говорят в велоспорте. Падение на втором этапе «Тура Трансальп». Семь этапов за семь дней, около тысячи километров по Альпам в Австрии, Швейцарии и в основном в Италии. Едешь вместе с партнером. Я упал во второй день, сам виноват, пижонил перед группой.
У меня был кризисный этап – я еще не вкатился в высоких горах, отставал на подъемах и на спусках пытался догнать и обогнать людей, добрать потерянное время. Отъезжал от группы, начал показывать, как круто умею закладывать. В один момент не оценил качество нового асфальта и красиво разложился на повороте. Ничего не сломал, просто ободрался, разбил колено, бедро, плечо, какое-то время кровь текла по ноге в ботинок. Но в велоспорте часто обдираешься. Если ничего не сломано, то едешь дальше. Так что вскочил и поехал догонять.

– Какое место заняли?
– Не сильно волновал общий результат, так что даже не уточнял. В своей возрастной группе, кажется, мы были 20-22-е. В общем зачете где-то 50-е из 300-400 команд.
– Главное впечатление от гонки, кроме падения?
– Адреналин на спусках на альпийских перевалах. Меняющиеся пейзажи. Чем вообще интересны Альпы: постоянно проезжаешь вверх и вниз через разные климатические зоны. Широколиственные леса, хвойные леса, альпийские луга, морена и арктическая горная пустыня. Дальше доезжаешь до снегов. Самый высокий перевал – Гавия – закрыли, но под легендарным Стельвио и через перевал Умбрайл мы проезжали. Потом из холода горных вершин ты падаешь вниз в духовку Южного Тироля. На финише каждый раз температура была под 40.

Подъем к перевалам Умбрайл и Стельвио
– Вы сказали, что перевал Гавия закрыли. Почему?
– Через него в этом году и «Джиро» не ехала, потому что лежал трехметровый снег. После этого он успел растаять, но превратился в воду. За неделю до нашего тура были фотографии: человек едет там по колено в воде. Поплыло дорожное полотно, было небезопасно с точки зрения селей и оползней. Поэтому местная полиция в последний вечер не дала разрешения.
– Самое удивительное место, которое проезжали в Альпах?
– Наверное, это Мортироло. Перевал, который я еду в гонке уже второй раз. Есть подъемы и покруче, Англиру или Дзонколан, но из того, что я ездил, – это всегда настоящее испытание, даже для профессионалов. Он проходит в лесу, там какие-то лесные избушки стоят, крохотные деревушки, дальше выскакиваешь на «альмы» – альпийские луга с коровами на крутых склонах. Мортироло всего 1850 метров по высоте, но асфальт там плохой, дорожка узкая, петляющая. В лесу, в тени, могут быть мокрые места, постоянные ямы, трещины.

Плюс он бесконечный с этими градиентами, когда ты едешь подъем по 16-17% и думаешь, что вот сейчас кончится. Поворачиваешь – а там еще больше градиент. И в этот момент ты себя испытываешь, поступаешь против того, что просит тело: тяжело, а надо, наоборот, еще прибавить. Когда доехал до верха, то это каждый раз достижение.
– Читал, что после финиша вы пошли на оперу в Верону.
– Это так. На «Арена ди Верона» слушали с друзьями «Трубадура» Верди в постановке Дзефирелли, с Анной Нетребко. Мы идем туда после финиша Тура на озере Гарда уже второй раз. Для меня опера является душой Италии. Как и велоспорт – еще одна душа. С каким энтузиазмом там относятся к велосипедистам, к производству велосипедов, оборудования, формы. Что такое для них «Джиро», как чтут там кумиров – Марко Пантани, которому стоит памятник на середине подъема Мортироло, Микеле Скарпони, именем которого сейчас расписан весь асфальт на перевале. Что такое для итальянцев Фаусто Коппи, Джино Бартали.
Мы проводили одну ночь в Понто Ди Леньо – там многое осталось от этапа «Джиро», который там в этом году финишировал. Город украшен плакатами, перевалы расписаны именами гонщиков. Везде выставлены розовые велосипеды. Помню, один раз едем на перевал – а на дороге какая-то местная велошкола, детишки в шлемах сидят на заборе, приветствуют нас. Те же полицейские, которые тоже приветствовали нас – это же Италия!

Будь такой тур в России, не думаю, что столько симпатий и понимания я бы получил от полиции. Для них это еще одно оцепление: какие-то идиоты бегут или едут. А тут полицейские сами велосипедисты и все понимают. Плюс видишь, как хорошо едут многие итальянцы, причем часто совсем немолодого возраста, и ты понимаешь, что последние 40-50 лет жизни они провели в седле.
Медузы, бизоны, 21 тысяча калорий
– Пять лет назад вы прошли классическую дистанцию Ironman за 11 часов. Улучшили с тех пор результат?
– Нет, я закончил бегать обычные Ironman. Теперь каждый год участвую в так называемых «экстремальных айронах». Я понимаю, что можно совершенствоваться и знаю, что нужно сделать, как тренироваться и где стартовать, чтобы выбежать Ironman из 11 часов и, возможно, даже из 10. Думаю, что я бы смог это при известных усилиях. Для многих триатлетов это важно – выбегать из 10 часов, быть Single Digit Ironman.
Но я не пошел по этому пути, потому что мне нравится само преодоление, экстремальные условия. Все началось в 2015 году с триатлона Norseman. Это та же самая дистанция Ironman или чуть больше, но проходящая в непростых природных условиях. Например, плавание в холодной воде во фьорде: в 5 утра в темноте с кормы парома прыгаешь в десятиградусную воду в середине фьорда. Затем я проходил Swissman в швейцарских Альпах с набором высоты 5 тысяч метров на велосипеде и с горным марафоном с финишем на леднике Эйгер под вершиной Юнгфрау. Был Celtman в Шотландии, с ливнем, бурей и тяжелым плаванием против отливного течения, среди сотен медуз. В прошлом году участвовал в Swedeman по горам в шведской Лапландии: финиш плавания под самым большим в Швеции водопадом, потом продувной холмистый этап на велосипеде и технически сложный трейловый бег по тундре и морене.

В этом году еду в Исландию. Вода ожидается холоднее 10 градусов, потом велосипед по пустым дорогам с сильными ветрами, потом беговой марафон, надо дважды пересечь горный хребет. На таких гонках еще должна быть своя команда поддержки. Сопровождающая машина, компаньон на беге – и все это превращается не столько в гонку, сколько в совместное проживание этого куска жизни, в приключение.
– Самая жесткая гонка в вашей жизни?
– В прошлом году бегал «Нурденшельдслоппет», это лыжная гонка на 220 км в шведской Лапландии, в городке Йоккмокк. Первый раз ее провели в начале 20 века. Был полярный исследователь из Швеции по имени Нурденшельд, который сказал, что в экспедиции по Гренландии его саамские проводники прошли за день на лыжах 300 км, что вполне возможно, зная выносливость саами. Его подняли на смех, он сказал: «Хорошо, давайте проведем гонку». И они провели эти 220 км по холмистому рельефу, с сопками, году, кажется, в 1910-м, и победил саамский же лыжник. Через сто лет ее решили возродить там же, и с тех пор проводят каждый март.

В прошлом году она оказалась очень сложной: проводилась в сильную метель. Лыжня была разбитой, очень мягкой, медленной. Лидеры проехали медленнее на два часа, я часа на три дольше, чем хотел. Получилось 18 часов на лыжах без перерыва, а лимит – 30 часов. Это как тот же самый экстремальный Ironman, там тоже можешь тратить по 15 часов. Не скажу, что после финиша я умирал и проклинал жизнь. Но было трудно, потому что допустил несколько стратегических ошибок: не надо было ехать дабл-полингом, потому что с моим уровнем готовности по свежему снегу плохо ехать этой техникой, не хватает силы и резкости удара, надо было на обратном пути, на 160 км, мазь положить. И еще я самонадеянно закинул фонарик со своими вещами на станцию 200 км, а надо было на 50 км раньше, поскольку я не предполагал, что пойду так медленно. Из-за этого с наступлением темноты я оказался без света.
На тот момент я уже сильно устал, не мог удержаться с обгонявшими группами и оказался в одиночестве в лесу, уставший, замерзший и без света. От усталости начались слуховые галлюцинации, стал слышать голоса, лай собак, хотя понимал, что никого рядом нет. И просто шел, читал стихи, песни пел, чтобы не заснуть, сознание держать сфокусированным. Хотя все время хотелось присесть и заснуть, но я головой понимал, что замерзну. Это был сильный экзистенциальный опыт. Вокруг минус 20, начинаешь подмерзать, на нулевом запасе гликоген, а идти еще 15 км до ближайшей станции поддержки. Ты без света и катишь по полностью темной лыжне. Съезжаешь с горки на ощупь, иногда в кусты въезжаешь. Выбираешься – едешь дальше.
– Что вы делали первые два часа после финиша?
– Сначала раздевалка, душ, баня. Согрелся минут за 20, спиной прижимался к горячим бревнам. Потом пошел отъедаться – суп, черный хлеб, мясо с молоком, по-шведски: они запивают обед молоком. По данным бегового компьютера, за 18 часов я потерял 21 тысячу калорий, это средний недельный рацион человека. По ходу гонки, конечно, подкармливают, но все равно потери на холоде очень большие. Потом спать поехал: лег, закрыл глаза и вырубился.

– А наутро могли бы еще пробежать?
– Наверное, да. Причем обидно: наутро была идеальная лыжная погода, солнечный день, заглянцованная лыжня, искрится снег на елках – все прекрасно. Там вообще снег идет весной один раз в месяц. И этот день пришелся как раз на марафон.
Дважды бежал их в Гренландии – трехдневная гонка Arctic Circle Race, 200 км в три этапа через сопки и по берегам фьорда, по серьезному рельефу, больше 5000 метров набора высоты. Две ночи между этапами ты спишь в палатке, питаешься там, живешь на снегу в тридцатиградусный мороз. Палатку дают от организаторов: для тебя разбивают лагерь, твои вещи в него транспортируют, спальник твой, подстилка. Сам себе готовишь ужин, завтрак, лыжи, сушишь вещи. Ночью в палатке сосульки намерзают от твоего дыхания и падают на лицо.
– А выдают то, из чего готовить?
– Нет, еду привозишь с собой, как и набор для выживания, который берешь с собой в гонку: дополнительный костюм, теплые вещи, флис, карта, компас, свисток, одеяло из фольги, фонарик, телефон. Еду организаторы транспортируют сами, но есть ограничение по весу, килограммов 10 или 15. В них умещаешь мюсли, пару пачек макарон, вяленое мясо, галеты, сыр. В кухонной палатке стоит примус, дают электричество от движка, еще одна палатка под сушку вещей с тепловой пушкой, третья – под подготовку лыж с розетками для утюжков. Вот бани нет, но три дня можно потерпеть. Хочешь – снегом обтерся.
Кстати, оба раза была проблема со снегом, как ни парадоксально. Посередине острова – ледник, но трасса накручена около берега, вокруг городка Сисимиут на западном побережье Гренландии. Снега мало, трасса очень леденистая, фактически гонки по льду. Очень опасные спуски: чтобы накрутить километраж, ты несколько раз с гор спускаешься во фьорд, потом забегаешь обратно. Один спуск, помню, был с перепадом 400 метров, настоящая слаломная трасса.
– На всех картах Гренландия – это кусок льда. Жизнь на острове есть?
– Только вдоль побережья. Отъезжаешь от берега – ничего нет, горы, ледники. Иногда там стада бизонов, огромных зубров видел. Там все на собаках: в каждой деревне их в три раза больше, чем людей. И в целом собачье население Гренландии больше, чем человеческое. Вой ночью такой поднимают! В деревне спишь под непрерывный вой и тявкание лаек. Упряжки живут в больших будках, возле каждой полуобглоданные кости, куски моржового мяса.

Переломы, аварии, карабинеры
– Сколько серьезных травм из-за спорта у вас было за жизнь?
– К сожалению, не одна. Были и переломы – ногу ломал дважды, однажды кости таза. Были отрывы мышц и сухожилий. В основном на горных лыжах, что обидно: я ими профессионально никогда не занимался, в соревнованиях не участвовал, а травматизм непропорционально высокий. Люблю погонять, распустить лыжи, если людей вокруг нет.
Первый раз серьезно разбился на горных лыжах в Крылатском, мне было лет 13. Не знаю точно, что там произошло, я оказался в больнице без сознания и так и не вспомнил тот эпизод, отбило короткую память. Видимо, произошло лобовое столкновение с человеком, который спускался с противоположного склона. Тогда же все катались без шлемов.
– Когда оказались без сознания – стоял вопрос жизни и смерти?
– Нет, но все же была черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, лицо все разодрано, губы зашивали без наркоза, до сих пор помню. Через год там же на лыжах сломал ногу. Из-за отечественного крепления КЛС-4, советский вариант системы «маркер». Был сильный мороз – и оно просто замерзло: запал шарик в поворотном механизме, крепление не раскрылось, и я, простите, услышал хруст собственной кости.
Дважды меня машины сбивали на велосипеде. Причем не в России, как можно было бы предположить – тут это сплошь и рядом, я уже не одного знакомого велосипедиста потерял на наших безумных дорогах – а в Альпах.
– Как все случилось?
– Первый раз на моем дебютном «Туре Трансальп». Вот представьте: едет пелотон гонщиков через Альпы, совершенно разных по уровню, от бывших про-райдеров до новичков. Перекрытие дорог не полное, а частичное: есть зоны нейтрализации на старте, на каких-то перевалах дороги для нас закрывают, а в основном шоссе открыты, просто стоят волонтеры, которые предупреждают об опасности, и то не везде.
Один раз ехали через итальянский городок, на ходовом спуске я немного перебрал со скоростью, но предполагал, что дорога перекрыта. Был местный водитель, который думал иначе, и с боковой улочки он вырулил мне навстречу, а у меня скорость такая, что я мог вписаться в правый поворот только по встречной. Меня вытащило на его машину, и я вписался ему в борт. Машина получила сильные повреждения – никогда не думал, что человек так может повредить авто: две двери «ауди» всмятку. А мне ничего – цел, только отбросило на асфальт. Но я быстро поднялся, накинул цепь и погнал дальше.
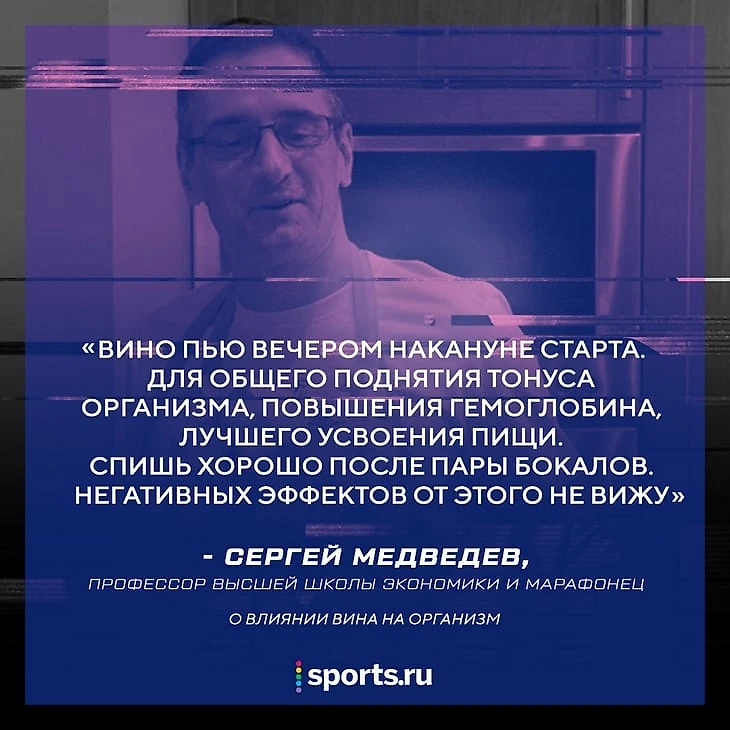
Через несколько километров меня догнал офигевший водитель и карабинеры. Его тоже можно понять: в него влетает какой-то сумасшедший, сильно бьет машину и уезжает, а что говорить в страховой? Была долгая разборка. Сначала карабинеры отобрали чип, хотели везти в «казерне», в участок, чтобы составлять протокол. Я кричал, что не могу, у меня гонка, видимо, еще шоковое состояние было. Чтобы уйти от них, побежал через какое-то поле с кукурузой с велосипедом в руках. Но тут приехал маршал на мотоцикле и меня отмазал: мне вернули чип, номер и отпустили.
Второй раз это в чистом виде была вина водителя. Была четырехдневная шоссейная гонка «Тур Челлендж». Швейцария, возле Санкт-Морица, спуск с перевала Юлиерпасс, который я отлично знаю, часто там ездил. Я ехал на скорости около 60, меня обгонял фургон Фиат-Дукато, явно со слишком высокой скоростью. В этот момент там появилась встречная машина, фургон резко принял вправо и ударил меня бортом. Я упал – большая удача, что на асфальт, а не улетел в отбойник. А он уехал.
Потом его догнали полицейские. Это оказался немец, врач. Ему присудили только штраф и временное лишение прав, хотя он мог меня сильно покалечить. Я тогда сильно ободрался – плечо, бедро, колено. Добрался до финиша, поехал больницу в Самедане, там всего просветили рентгеном, переломов не было. Следующие этапы гонки ехал забинтованный, как мумия, сбежавшая из склепа.
– На соревнованиях часто такое видели?
– Помню серьезные падения на альпийских гонках, на том же «Тур Челлендж». Его, кстати, больше ни разу не проводили. Не уверен, что они были летальными, но видел, что людей эвакуируют на вертолетах. В основном это происходит на горных перевалах, быстрых спусках. Самым опасным бывает первый крутой поворот после долгого выката: когда люди разгоняются, они не чувствуют скорость и сцепление. Когда ты едешь по серпантину в рабочем ритме, ты уже контролируешь скорость. А когда первый крутой поворот, он часто бывает самым опасным.

Тело, горы, сознание
– После всех этих историй только один вопрос: зачем вам все это нужно?
– Это как альпинистов спрашивать, зачем они ходят в горы. Хорошо в свое время ответил Эдмунд Хиллари, показав рукой на Эверест: «Because it is there», «потому что он там есть».
– Некоторые для того, чтобы в фейсбуке выставить медаль.
– Это тоже, не стану отрицать, но это не главное в списке приоритетов. Конечно, сегодня отчеты о гонках, фотки и лайки в фейсбуке становятся важнее. Но все эти гонки я и 20 лет назад проезжал, до всякого фейсбука и соцсетей, и нигде об этом не писал. Правда, сейчас думаю: «Эх, такие результаты хорошие были, сейчас был бы героем фейсбука».
– Что этот опыт вам дает?
– Есть такое модное слово «осознанность», но здесь оно кстати. Осознание себя в природе, своего места в мироздании. Нахождение границ собственной воли и навыков. Взаимодействие тебя с природой и другими людьми. Испытание себя на прочность. Это интимные, глубокие вещи, но они потом работают и в обычной жизни, проецируются на профессиональную, личную сферу. Я считаю это не развлечением, а самопознанием, это важнейшая часть моего жизненного проекта.

Помню большие переходы, которые вообще не связаны с соревнованиями. Как-то в Лапландии зимой проехал на лыжах 120 км. Меня на снегоходе отвезли в дальние сопки, высадили с собакой, и мы шли целый световой день. Мне просто было интересно. В одиночку я и в горы всегда ходил.
Это чистая самореализация, осуществление собственного предназначения через физическую активность, тело. Я об этом много думаю, сейчас книгу пишу об этом. Считаю, что это один из важных инстинктов человечества: сохранение конкурентоспособности человека как вида. В современной цивилизации мы все чаще сталкиваемся с потерей бегового и вообще двигательного навыка, моторики. Через спортивные занятия и открытие собственного тела человек возвращается к истокам цивилизации, к себе самому.
Потому что тело очень важно для осознания личности. Иногда я думаю, чего больше в моей идентичности: тела или духа, сознания. Конечно, я не буду собой ни без того, ни без другого. Если отрезать тело и превратиться в голову профессора Доуэля, я перестану быть самим собой. То же самое, если останется одно тело и утратится сознание. Поэтому тело равноправный соавтор проекта под названием я.

– Потеря активности происходит из-за развития цивилизации, машин и поездов?
– Да, современная цивилизация постепенно отбирает у человека физический труд, необходимость перемещения, спасения от хищника, ходьбы пешком. А это заложено в теле, ему необходима активность. Я на себе осознаю: все жизненные процессы на фоне моей спортивной деятельности совершенно иначе протекают. Вернувшись с тренировки, я намного более креативен, могу написать интересные вещи, меня это может натолкнуть на новые мысли, образы, слова.
Когда приходишь домой уставший с работы, есть выбор: час полежать на диване или вымотанному надеть кроссовки и пойти этот час побегать. И побежав, ты неожиданно сбрасываешь с себя усталость и понимаешь, что ты стал сильнее, свежее, чем если бы этот час провел на диване. Или вот с утра: лишних два часа поспать до 8, или в 6 часов встать и вытащить себя на тренировку с 7 до 9. При этом ты спал четыре часа. В моем случае 4 часа сна +2 часа тренировки работают лучше, чем 6 часов сна. Гормональный вброс, который дают занятия спортом, с лихвой компенсирует ту недостачу, которую получаешь в отдыхе и сне. У меня и в целом такого отдыха не бывает, чтобы сидеть расслабленным. Для меня отдых – это движение, расслабиться можно и на бегу, и в бассейне. Времени нет, чтобы лежать и расслабляться – я каждый день тренируюсь, иногда по два раза.
Алкоголь, пастухи, туалет
– Бегуны и велосипедисты в парках обычно в наушниках. Там, где ездите вы, такого нет?
– На велогонках это запрещено, потому что попросту опасно. На велосипеде это вообще критично – из-за машин и других велосипедистов, на беге в общем тоже небезопасно, не услышишь приближающегося сзади велосипедиста. И в целом я против музыки во время занятий спортом. Суть этих занятий в том, что человек должен слушать музыку собственного тела. Музыка твоего дыхания, шагов, ритмов сердца – они уникальны, их нельзя перебивать внешним ритмом.

– Еще вы против пульсометров и приложений на телефонах.
– Не радикально против, но они часто отвлекают, подменяют гаджетами физиологическое переживание бега. На велокомпьютере я смотрю мощность, среднюю скорость, вертикальную скорость. А вот пульс не смотрю уже много лет. Я не считаю для себя это важным, потому что чувствую его изнутри – по дыханию, мощности, частоте шагов. Я примерно знаю, какой у меня в каждый момент пульс, но мне это знание ничего не дает. Я физически не могу разогнать сердце до пульса, при котором надо себя останавливать, организм сам выдаст все предупреждения.
– Раньше вы пили каждый вечер один-два бокала вина и говорили, что это полезно даже перед стартами. Ничего не изменилось?
– Да, я не против. Не то что свято следую традиции, но на «Трансальпе» каждый вечер мы садились ужинать с вином. И перед лыжными марафонами – выпью красного с удовольствием. Это же идет в комплекте с большой едой, с огромной тарелкой пасты: конечно, ее хочется съесть с бокалом красного. Недавно добавил пиво. На «Трансальпе» в жару очень хорошо заходило безалкогольное пиво, в последнее время полюбил его: и вкус, и польза, например, растворимый кремний для костей, и не бьет по мозгам. В летний день после хорошей тренировки пиво отлично восстанавливает.
Вино пью вечером накануне старта. Для общего поднятия тонуса организма, повышения гемоглобина, лучшего усвоения пищи. Спишь хорошо после пары бокалов. Почему на любительском уровне надо отказывать себе в этом удовольствии? Но я никогда не стану перед гонкой пить крепкий алкоголь. Хотя, если в Италии, то рюмку граппы с эспрессо после ужина могу пропустить – сколько там, 40 грамм.

– Есть люди, которые, наоборот, набухиваются перед стартом, а с утра как огурчики?
– У меня такое бывало лет 10-15 назад. Мог всю ночь в клубе тусить, пить коктейли, крепкий алкоголь, танцевать до упаду, а с утра бежать тяжелый кросс МГУ памяти Карпова на Ленгорах. И ничего – хорошо добегал, по ходу голова прочищалась. Хотя никому не рекомендую, и сердце спасибо не скажет.
Ходят легенды о бывалых ветеранах на лыжных марафонах. Будто они могут бутылку водки распить прямо перед стартом в кустах и с ходу побежать, как на допинге. Сам не видел, но допускаю, такое у нас умеют.
– Кто сейчас самый необычный человек, которого встретили на старте?
– Каждый год на «Трансальпе» на одном из австрийских перевалов – однажды, помню, это был перевал Кютай – появляется жилистый дядька в сандалиях на тяжелом байке и обгоняет группу на подъеме. Не думаю, что совсем уж лидеров гонки, но людей из первой сотни. Очень забавно, едут такие красавцы на профессиональном оборудовании, а местный мужичок на байке от них уезжает.
– Самая необычная профессия участника?
– На горном марафоне Юнгфрау в Швейцарии – а это не просто бежать 42 километра, но и два километра вверх на ледник с нами стартовал знаменитый архитектор Норман Фостер, которому тогда было уже далеко за 70. Кстати, он до сих пор бегает Энгадинский лыжный марафон, хотя ему больше восьмидесяти.
А вообще я люблю местных жителей на старте. Когда я жил в Баварии, в Альпах, там на гонках бегают крестьяне, лесорубы, пастухи, трактористы. Они в своих лесах и полях тренируются, прямо с пастбища на старт триатлона. Не могу себе такого представить у нас в России, здесь триатлет и колхозник – это даже не разные планеты, а разные галактики.
– Правда, что некоторые гонщики ходят в туалет прямо с велосипеда?
– Правда. Я так не умею. Надо очень хорошо владеть велосипедом: свеситься в сторону, оттянуть трусы вниз – и делать. В прошлом году на Туре был смешной эпизод – гонщик Хайнрих Хаусслер писал на ходу, а вдоль обочины, не видя это, его обгонял Петер Саган. И Хаустлер написал на него. Но обычно все вместе в группе делают санитарные паузы, останавливаются в спокойный момент гонки. Не принято в это время прибавлять, делать отрывы. Обычно одновременно несколько человек притормозили, пописали на обочине и поехали дальше. Но в принципе можно грамотно регулировать уровень жидкости в организме, по необходимости доливать и испарять с потом, так чтобы за семь часов не сходить вообще ни разу, не потерять ни минуты. Иногда мне это удается, и тогда я доволен собой.
Распил, выборы, 90-е
– Сколько времени спорт отнимает в вашей жизни?
– Примерно треть. Но сделаю важное уточнение: я научился мало спать и высыпаться за 4-5 часов, так что сэкономленные 3-4 часа в день посвящаю спорту.

– Жертвуете работой?
– У меня очень гибкий и мобильный график, все идет в комбинации и контрапункте. Живу рядом с местами своих тренировок и почти не трачу времени на дорогу. Часто тренируюсь по ночам – могу плавать с 11 до 12 ночи, когда у меня есть своя пустая дорожка, могу после полуночи, когда голова уже не работает, сесть крутить на велостанок или, наоборот, поехать кататься на велосипеде с 5 до 8 утра, пока пустое велокольцо в Крылатском, не вышли пешеходы и собачники. Не бывает такого, что из-за спорта я не прочитал лекцию или не сделал эфир, рабочие обязательства в приоритете. А если уезжаю куда-то на неделю – на сбор, на многодневку – то можно взять отпуск, провести занятия в другой день, записать эфиры заранее. Бывает, сочетаю свои выездные лекции и летние школы с большими стартами, если я уж еду куда-то далеко. И я всегда беру с собой шоссейный велосипед на свои школы и длинные поездки, полмира из седла посмотрел, от Лапландии до Калифорнии.
– Сколько работ у вас есть прямо сейчас?
– Постоянных – две, преподавание в ВШЭ и программа «Археология» на Радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Но много разных текущих проектов: медийных, лекционных, просветительских. Выступаю с лекциями по всей России, веду публичные дискуссии, презентую книгу «Парк Крымского периода». Два-три раза в месяц летаю с выступлениями, презентациями. В Свободном университете Берлина веду дистанционный курс. Организую серию летних и зимних школ Escapes from Modernity в разных точках мира, провел их уже почти 30, сейчас проводим школу в Исландии.

– Мы встречается в офисе «Радио Свобода». Чем вас не устраивает современная России?
– Политическим режимом, который абсолютно архаичен, тянет нас в прошлое и лишает будущего. Он не соответствует ни долгосрочным интересам населения России, ни обстоятельствам современного мира. Это рентная власть, которая присваивает себе ресурсы страны и правит за счет силового ресурса.
– Как называется этот режим одним словом?
– Авторитарный. Демократия в России успешно демонтирована. Пока еще режим не тоталитарный, поскольку у него нет идеологии, и все-таки у нас людей не казнят, а только немного пытают – хотя в Чечне, как доказывают правозащитники, и казнят. Это паразитический авторитаризм в периферийной стране запоздалого развития. Ничего необычного в этом нет ни с точки зрения мировой истории, ни с точки зрения российской, полно аналогов вокруг. Россия практически всегда управлялась как рентное государство, которое колонизировало страну. Просто в последние годы было печально осознавать крах надежд на модернизацию и тот факт, что 1990-е были не правилом, а исключением из многовековой истории, жадным глотком свободы.
– «Режим не соответствует запросам населения». Вспоминаем 2018 год, март, выборы. Путин – 76%.
– Общество – это гораздо больше, чем голосование на выборах. Голосование вообще технологическая вещь, оно очень опосредованно отражает интересы общества. Интересы выражаются не в том, кто будет сидеть в Кремле, а в наличии качественной государственной власти, чтобы медицина развивалась и лекарства закупались вместо систем залпового огня и дубинок для разгона митингов, чтобы в Кемерово и Тулуне людей спасали вовремя, чтобы в полиции не пытали, а помогали, чтобы суды судили по закону, а не по телефонному звонку, чтобы страна не жила под санкциями а встраивалась в глобальные цепочки разделения труда, чтобы Россия не вела бессмысленных и позорных войн за рубежом, не вмешивалась в дела других стран и не окружала себя кольцом врагов, чтобы чиновники не воровали и не строили себе роскошных дворцов… Масса вещей, которые этот режим не в состоянии обеспечить.
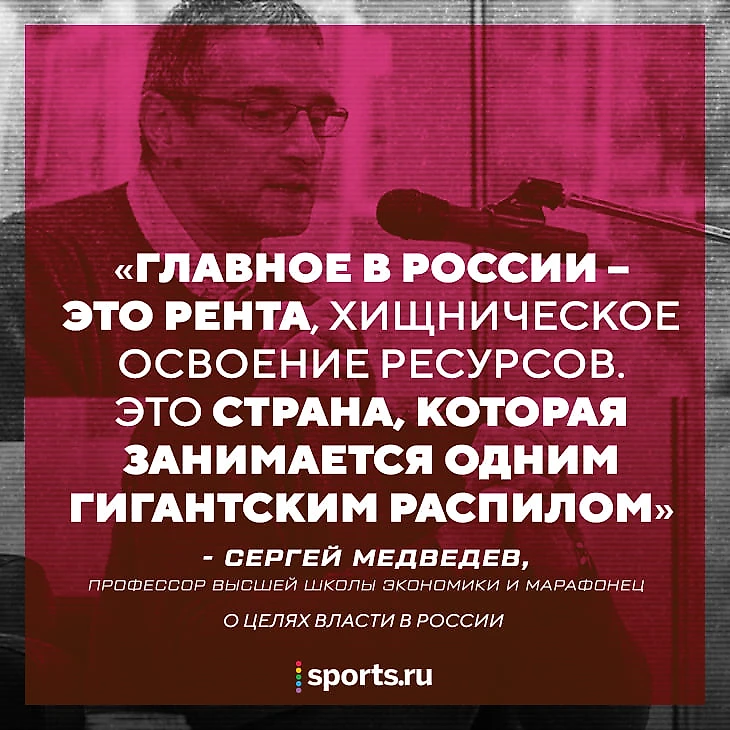
– Этого всего нет, но людей, судя по голосованию, все устраивает.
– Наркомана тоже все устраивает, а будущего у него нет. И курильщика тоже. Интерес курильщика – в том, чтобы бросить курить. Но если его спросить, купит ли он еще пачку сигарет, он ответит, что купит. Но что в его интересах – курить или бросить и жить на десять, двадцать лет дольше?
– То есть 76% наркоманы, а вы – доктор?
– Я не доктор, но я пытаюсь рационально осознать. Людей не спрашивают относительно их подлинных интересов, а предлагают логические ловушки: Путин или Майдан. А можно спрашивать о том, как бы они хотели, чтобы была устроена страна по части государственных услуг, их собственных доходов, здравоохранения, экологии, коррупции. Ни на один из этих вопросов у власти ответа нет, кроме очередной истерики по поводу Украины и полицейских репрессий.
Выборы в условиях безальтернативного политического ландшафта не свидетельствуют ни о чем, кроме как о силе политических технологий. Все авторитарные режимы стоят на каких-то выборах. Советское общество единогласно голосовало за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Что, мы теперь должны ссылаться на те выборы и говорить, что советская власть была демократичной, выборной и отвечала интересам страны?
– Что же делать?
– России нужны базовые институты современности: свободные выборы, разделение властей, защита прав собственности, прозрачность и подотчетность власти, независимый суд, контроль государства и общества над силовой корпорацией. Власть, которая не будет зависеть от настроения и здоровья вождя. Но в России за последние 20 лет были демонтированы практически все институты современного общества, заменены субститутами, симуляциями и разными формами поиска ренты.
Ведь главное в России – это рента, хищническое освоение ресурсов. Это страна, которая занимается одним гигантским распилом – нефти, леса, гранитной плитки, нашего труда, наших пенсий. В качестве побочного продукта этого распила она еще что-то производит и содержит из милости сто сорок миллионов иждивенцев, которые в общем-то для экономики трубы не нужны. Но у нас такие большие природные богатства, что их капли просачиваются вниз по пирамиде распределения и создают минимально приемлемые уровни жизни и поддержки режима.
Еще раз: России нужны базовые институты, к которым страна шла в 90-е годы.
– Шла, но не достигла.
– Частично достигла. И мы с этими полуфабрикатами живем. Но многие эти вещи превратились в симуляцию самих себя вроде свободных выборов, парламента и суда. В России нет этих вещей, как нет социальной справедливости. Это одна из самых несправедливых стран мира с колоссальным разрывом в доходах и возможностях верхушки и остального населения.

– Если бы вы были на федеральном ТВ, то на пассаж про 90-е, как оазис свободы, вам бы ответили так: «Тогда убивали, взрывали, не платили пенсии». Как с этим быть?
– Не скажу, что оазис подлинной свободы, но это было движение в направлении свободы: мысли и слова были свободнее, не было рабского страха перед государством и гражданином начальником, а сейчас этот страх вернулся, люди включили самоцензуру.
И что значит тогда взрывали? Тогда были бандиты – а сейчас менты на тебя накинутся на улице и подбросят наркотики. Посмотрите статистику невиновных людей, сидящих сейчас по 228 статье, просто выполняющих полицейские планы по делам за наркотики. Сравните статистику тех, у кого тогда отжали бизнес бандиты, а сейчас – чиновники или менты. Сколько людей тогда хотели быть предпринимателями и сколько сейчас: не братки девяностых, а силовики нулевых отбили у россиян охоту заниматься бизнесом.
Люди живут мифами и простыми суждениями, черно-белыми оценками. Да, девяностые были сложным временем, но это было время выхода из тяжелейшего кризиса советского индустриального проекта, из болота позднего социализма. Время, когда цена на нефть была 10 долларов. Если сейчас сделать 8 долларов за баррель, как в 1991 году, а не 65, как сегодня, то посмотрел бы я на нынешнюю Россию.
В 90-е была сделана малая часть того, что надо было сделать. Но появилась частная собственность, свобода слова, страна стала открытой, был ограниченный политический плюрализм с альтернативностью и непредсказуемостью выборов. А все те вещи, о которых вы говорите, были заложены не в 90-х, они идут из позднего СССР с его избытком моногородов и неэффективных предприятий, которые никому были не нужны в мировой экономике. Все эти сталелитейные и трубопрокатные заводы, которые производили некачественную сталь и трубы, так что мы до сих пор покупаем немецкие. Огромная неконкурентная химическая промышленность, топорная легкая промышленность, все это наследие неэффективного советского социализма, который заложил всюду эти бомбы. А когда все это рвануло в 90-е, то все сказали: «Во всем виноваты демократы – Гайдар и Чубайс».

Как, знаете, есть у Зощенко рассказ «Бедность», как в коммунальную квартиру свет провели. Они лампочку вкрутили и увидели: тут обои отваливаются, там – диван с клопами, на полу окурки – так они скорее провода перерезали, чтобы этого не видеть. Вот 90-е и были той лампочкой, которую мы ввинтили и неожиданно увидели, в каком говне мы живем. И многим это не понравилось. Но кто хотел – выбрался из говна. Сколько людей тогда открыли бизнес, стали независимыми от государства.
Я пойму этот плач про девяностые, если бы у нас были войны, как в Югославии, если бы был голод, как в Гражданскую. Да, было неспокойно, теряли работу, уезжали на заработки, торговали в киоске. Да, была первая Чечня, преступная война. Я не хочу оправдывать девяностые, но весь этот разговор сильно мифологизирован. Люди не понимают, что нам досталась в наследство огромная неэффективная страна. Как и сейчас: Россия громадная неповоротливая страна, застрявшая в 20 веке.
– Но опять мы возвращаемся к тому, что людей это устраивает. Всем же известно, что у Бирюкова, зама Собянина, пентхаусов на несколько миллиардов, но потом все эти люди идут и голосуют за Собянина. И если бы выборы прошли сейчас, я уверен, что вся Иркутская область, которую затопило, и весь Шиес, где хотят устроить мусорный полигон, проголосовали бы за Путина.
– Насчет Шиеса, кстати, не уверен: там люди всерьез воюют с государством. Но в целом да, голосуют, потому что не видят альтернативы. И я тоже пока не вижу и подозреваю, что Путин будет с нами еще лет двадцать. На полном серьезе говорю – к 2024-му найдут схему, как его оставить. Я внутренне готов к тому, что большая часть моей жизни пройдет при Путине. Но это не изменит моих убеждений. Это мой моральный выбор – смеяться, обличать, протестовать. Кто-то идет на баррикады, кто-то – к Навальному, кто-то опускает руки и начинает пить, кто-то эмигрирует. А я остаюсь здесь и продолжаю упражняться в критическом мышлении и учить этому студентов – не просто критике России, а критике окружающей действительности и отношений власти в духе Маркса или Фуко.
Я знаю, что люди пока голосуют за Путина, но это не опровергает моих представлений о том, что я считаю благом для своей страны. Понимаете, у нас в сельской местности 60% населения не имеют канализации. И она им не нужна. Не жили богато – ##### [нечего] начинать. Не было удобств – и не надо, оно спокойнее так. Или я не прав, что в 21 веке людям нужен теплый сортир? Или сермяжная правда русского народа заключается в том, что деды ходили на очко в выгребную яму, и мы будем ходить туда же?
– Кто виноват во всем этом?
– Можно много говорить об исторической колее, русской судьбе. У нас вообще любят говорить о судьбе, как в Турции говорят «кисмет»: Азия, покорность, фатализм! Климат холодный, почва скудная, зажаты между Западом и Степью, набеги варягов и кочевников, злое и прожорливое государство, сервильное православие, которое учит терпеть. Антропологи говорят, у нас восточный тип населения: созерцательный, буддистский. У нас люди скорее изменят себя, свое сознание, чем внешние обстоятельства жизни. Поэтому у нас великая культура, литература и анекдоты, поэтому у нас культ страдания и терпения, поэтому у нас горькая водка и тоскливая песня. Это все русский дзен, способы ухода от реальности и изменения собственного сознания для примирения с несправедливой жизнью.

Вот во Франции, например, чуть что не так – люди идут на улицу: в 18 и 19 веке революции, пять республик сменили, а сегодня – желтые жилеты. Они идут протестовать и за каждым признают право на протест. Стоят поезда на забастовке – имеют право. Перекрыт Париж – отлично. Сжигают машины – это французская традиция.
– То есть в России виноваты не конкретные имена, а обстоятельства?
– Обстоятельства задают альтернативы, а люди делают выбор в определенной социокультурной ситуации. Мне как политологу интересно изучать структурные основы исторического выбора. Конечно, каждый принимает индивидуальные решения: есть люди, стоящие во главе, есть те, кто идет и кто не идет на митинг. Есть несколько десятков тысяч людей, которые в августе 1991-го вышли на улицы Москвы и во многом повлияли на судьбу страны. Но эти индивидуальные решения диктуются долгосрочными структурными основаниями. И в этом смысле я считаю, что нынешний период истории России глубоко закономерен. Сейчас это страна, тянущая за собой собственное прошлое в 21 век. Мы как человек, который пытается идти спиной вперед с головой, обращенной назад, вопрос только в том, когда он споткнется. Так невозможно долго идти, человек должен или упасть или развернуться, страна рано или поздно должна развернуться к современности. Вопрос только в том, когда это произойдет и сколько до этого еще наделаем ошибок.
– Все-таки верите в светлое будущее?
– Конечно. Я верю в народ России, у нас образованное, модернизованное, гибкое, адаптивное и быстро учащееся население, которое на десятки лет вперед обогнало собственную власть. Просто у нас тупик, патовая ситуация в отношениях народа и власти. Люди не привыкли протестовать. Люди ждут изменения своей судьбы со стороны, и перемены в Россию всегда приходят извне, будь то Первая мировая, кучка эмигрантов- большевиков, группа либералов, падение Берлинской стены или падение цен на нефть. А народ все это принимает. В Российской истории народ редко брал судьбу в свои руки – например в 1612 году или во время Великой отечественной – но всякий раз свою победу народ вручал в руки власти.
Сейчас происходит поколенческий сдвиг. Я вижу, как пробиваются ростки независимого мышления, появляются люди, которые вытравили из себя государство. Что было у Навального на прошлых мэрских выборах – я и не думал, что после разгрома Болотной в России останется такой потенциал протеста и жажда изменений. Это все реально существует в виде насыщенного раствора. И Кремль это осознает и боится, и именно поэтому наша публичная и политическая сферы так закрепощены. Все понимают, что свобода близко – только протяни руку. Но рядом стоят Росгвардия с Роскомнадзором и бьют по этой руке.
Силовики, Путин, революция
– Как вы относитесь к Путину?
– Никак. Я воспринимаю его как климат. Но я, кажется, понимаю, почему он популярен и как он вписан в большой нарратив российской истории и культуры. Он отражает все тенденции последних пятисот лет: авторитаризм, патернализм, культ силы, имперский комплекс, обиду за державу. Феномен Путина глубоко прописан в русской культуре, чтобы его понять, надо читать Достоевского, «Записки из подполья»: это ресентиментная фигура подпольного человека из комнат-каморок, из проходных дворов Петербурга – холодного, злого капиталистического города эпохи первоначального накопления.
Помните, как у Сорокина в «Дне опричника» прорицательница отвечает Комяге на вопрос: «Что будет с Россией?» – «С Россией будет ничего». И мое отношение к Путину – никакое. Я просто делаю свое дело в данных природой обстоятельствах. Это лыжная привычка: какая бы ни была на улице погода – снег, дождь, слякоть – я выхожу на тренировку или на старт.

– Понимаете его мотивацию – ничего не менять, оставаться у власти как можно дольше и сосредотачивать вокруг себя все больше ресурсов?
– Это не его личная, а классическая мотивация власти. Но от Путина уже не так много зависит. Он заложник той системы, которую создал. На нем стоит карточный домик – пугающе сложная и безнадежно шаткая система. Он был ее творцом, но он уже не ее хозяин, он стал ее производной, ее функцией, и он не может просто взять и выйти из игры.
А мотивация, конечно, рентная. Это власть, сидящая на нефтегазовой трубе. Они должны обслуживать, охранять и продавать миру эту трубу. В принципе Россия – это труба и несколько миллионов человек для ее обслуживания и охраны, для присвоения и распределения ренты. Все остальные в этой схеме лишние, впрочем, и их можно превратить в ресурс, обложить штрафами, поборами, заставить работать до смерти: как говорится, «люди – вторая нефть».
– Был период правления Путина, когда он находился в себе? Обычно говорят, это первые восемь лет – если бы он тогда ушел, все вспоминали бы долго.
– Поначалу я его даже поддерживал, хотя и не голосовал за него никогда. Я в Россию вернулся после 15 лет жизни на Западе в 2004 году. Мне нравилось, что в стране происходит, некая новая динамика. Но как я позже понял, я сильно заблуждался.
– Стоп. Вы вернулись после «Норд-Оста», Беслана, засыпания Чечни золотом и поддерживали его?
– Это было до Беслана, но уже был арест Ходорковского в 2003 году, да.
– А еще Березовского отправили в Англию, Гусинского – в Израиль.
– А что мне Березовский и Гусинский, они были мне еще менее симпатичны. Я понимал, что силовики приходят к власти, но я возвращался в свою страну и в свой город. Я полагал, что созданы достаточные институты модернизации и глобализации, что Россия превратилась, как тогда писали политологи, в «нормальную страну». И Путин говорил тогда правильные вещи: что национальной идеей России является конкурентоспособность. Россия тогда с Бушем дружила, поддерживала Америку после 11-го сентября, оставляла военные базы во Вьетнаме и на Кубе, дала американцам проход в Афганистан. Плюс административная реформа, фискальная, подоходный налог в 13% – а я возвращался из Германии, где платил чуть не 40%.
Сильный перелом произошел осенью 2004-го – это Беслан. Тогда Путин моментально и неожиданно для меня возложил вину на Запад. Потом случился первый Майдан в Киеве, «оранжевая революция» – и тогда в головах власти что-то сильно поехало.
– Путин испугался?
– Да. Они там все ушиблены Майданом и до сих пор боятся революций. Они считают, что Запад хочет расчленить Россию, использовав технологию цветных революций. Они всерьез верят в эту страшилку. И этот страх – главная движущая сила того, что происходит сейчас в России. Отсюда разгон Болотной, репрессивные законы и все остальное. Они боятся любой независимости и самостоятельности – Украины, митингов, Интернета.
Эти люди не понимают, как устроен современный мир. Что Западу не нужно дробить, унижать и оккупировать Россию. А они живут идеями исторического поражения и реванша, «геополитической катастрофы». Вывести их из этой парадигмы, по-моему, нереально.

– Почему Западу невыгодно расчленять Россию?
– А кому это вообще выгодно? Западу нужно, чтобы мы были мирной страной, большим рынком, не лезли по миру, куда нас не зовут, покупали западные продукты и продавали свою нефть.
– А как же теория, что Запад хочет раздробить Россию и пользоваться нашей нефтью и газом?
– Это мудацкая теория для любителей конспирологии, астрологии и заговора рептилоидов. Западу нужно, чтобы были стабильность и предсказуемость. Для этого не нужно дробить Россию: на месте нее появятся неуправляемые части, некоторые из которых превратятся в исламские анклавы, а другие упадут под Китай. Наоборот, Западу важно, чтобы это огромное пространство держалось под единой властью, и никто кроме России эти замороженные пространства удерживать не будет, это наш крест. Распад России – катастрофа для Запада. Эти сценарии есть только в головах чекистов, и они сами в них верят. На самом деле Запад – естественный союзник России в противостоянии с растущим Китаем, с исламом, он видит нас частью глобального рынка. А Россия в какой-то момент решила выйти из этой игры и захотела изобразить из себя обиженного Чайльд-Гарольда.
– Кто в 2003-2004 годах Путину капал на мозги и изменил политику?
– Весь его ближний круг, как и он сам, – это люди из силового блока. Их мышление сформировалось внутри парадигмы угроз. Эти люди мыслят угрозами, а не возможностями, угрозы – их главный ресурс и способ кормления. Поэтому на глобальный мир они смотрят со страхом, как на угрозу суверенитету, а не как на возможность для модернизации, и вместе с собой тащат в изоляцию всю Россию.
Украина, Крым, недороссия
– В 2014-м вы сказали, что война на Украине была придумана пропагандистами, а Путин просто в нее поверил. Серьезно, что ли?
– Совершенно серьезно. С Крымом это, видимо, долгосрочная задумка. Но дальнейшая война в Украине – думаю, что это творческая импровизация, а Путин поверил телевидению, во всех этих испанских авиадиспетчеров и распятых мальчиков. Как выразился Глеб Павловский, он переехал жить в ТВ, в картинку, созданную для него телевидением.
Украина вообще больной момент империи. Проблема в том, что Россия – это империя, которая уже распалась, умерла, но никак не может в это поверить. И вопрос о том, империя Россия или нет, решается в Украине, старик Бжезинский тут был прав, когда писал, что без Украины Россия перестанет быть империей. Поэтому потеря Украины является ножом в бок. Из-за этого Россия уже 15 лет истерит по поводу Украины, которая на глазах уходит. Причем, что парадоксально, – Россия своими руками с кровью оторвала и отталкивает Украину, пихает ее на Запад, хотя там Украину и не очень-то хотят. Но российская паранойя по поводу потери Украины превратилась в самосбывающееся пророчество, параноидная реакция на первый и второй Майдан, аннексия Крыма стали актами не удержания, а отчуждения Украины. Кремль своими руками, сам того не понимая, создает независимую украинскую нацию, Путину когда-нибудь в Киеве памятник поставят – он как никто другой объединил Украину.

– Без Украины Россия не империя, потому что Киевская Русь?
– И потому что это большая территория, богатая провинция, мост на Запад. Вслушайтесь в язык: это же У-краина, Мало-россия: окраина, недороссия. Мы себя чувствуем великороссами, потому что есть малороссы, а без малороссов мы кто? Без младшего брата старший брат уже не старший. Это символическая политика, детская ревность, архаичная жажда первородства.
Каждая бывшая империя переживает свою постколониальную истерику: Франция – с Алжиром, Англия – с Фолклендами. Но там были локальные войны. А у нас глобальная обида и глобальный конфликт.
– Что будет с Россией через 10 лет?
– Еще раз процитирую великого русского писателя и пророка Владимира Сорокина: «С Россией будет ничего». Это история надолго – что история последнего тысячелетия, что история, в которой мы живем сейчас. Возможно, что за десять лет изменится многое, а вот за сто лет – ничего.
Какой же Семин молодой! Поговорили о зарядке на океане, шопинге и правильном отношении к алкоголю
Геркус отдыхает после «Локо»: пишет книгу об убийце Кеннеди, мечтает об Ивлеевой в РПЛ
Больше историй о беге, триатлоне и любительском спорте – в разделе «Здоровье»
Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы следить за новостями любительского спорта
Фото: facebook.com/Respublica.ru, sergei.medvedev3 (2,3,10,12,13); en.wikipedia.org/Gabri80; globallookpress.com/Gian Mattia D’Alberto/Lapresse; facebook.com/suixtri/Sampo Lenzi; nordenskioldsloppet.se (7,8); globallookpress.com/Patrick Pleul/dpa-ZentralbildZB; facebook.com/andrew.plotnitskiy; instagram.com/mosferrum; facebook.com/sergei.medvedev3/Aldis Toome/sportfoto.com, univerkgi; использовано фото: facebook.com/sergei.medvedev3








Спорц, ты меня удивляешь!
Теперь вот, оказывается, в 90-ые был "воздух свободы" - сам при этом вернулся в Россию из США только в 2004, пересидев эти самые 90-ые на Западе. Рассказывает теперь про "русский дзен" ("рабский менталитет") и "колею". Образцовая демшиза, Путин доволен "оппозицией"
1994-1999 Приглашенный исследователь, Фонд Науки и Политики, Эбенхаузен, Германия
1996-1999 Исследователь, руководитель российской программы, Финский Институт Международных отношений, Хельсинки, Финляндия
1996-1999 Приглашенный лектор в университетах Финляндии и Германии
1999-2004 Профессор, Центр им. Маршалла, Германия
Хлебнул дядя профессор горя в 90-е!
Давайте уже Мэддисона!
Кстати, в Сомали сейчас вообще самая свобода. Надо России на Сомали ориентироваться.
Дяденька совсем отбитый, вкупе с пассажами про святые девяностые.
2. Давайте отдадим Арктику "международному сообществу".
Профессор, я не понял.
Фолкленды - заморская территория Великобритании.
Дяденька, а вы точно профессор?
Без вопросов к спортивным достижениям. Но вот историко-политические пассажи вызывают вопросы. Я понимаю разговор и т.д. Но всё-таки перед публикацией можно проверить.
Впрочем, что еще можно ожидать от ВШЭ? Спортс.ру скатывается.
как то странновато он это демонстрирует...
Никому не нужен распад, чтобы огромный ядерный арсенал оказался в руках удельных князей.
Назвать Сорокина великим писателем может либо человек, который других книг вообще не читал, либо... придурок.
Это я как человек, имеющий прямое отношение к литературе, заявляю.