Судьба человека
<…>
…Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту - лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к стадиону, но повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:
- Здорово, браток!
- Здравствуй. - Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.
Мужчина наклонился к мальчику, сказал:
- Поздоровайся с дядей. Он, видать, такой же тренер, как и твой папанька. Только мы с тобой лидеры АПЛ, а вот он небольшую команду тренирует.
Глядя мне прямо в глаза черными, как угольки, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне черную холодную ручонку.
Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, его папа сказал:
- А ты что же, браток, свое начальство ждешь?
Мне было неудобно разуверять его в том, что я не тренер, и я ответил:
- Приходится ждать.
- С той стороны подъедут?
- Да.
- Не знаешь, скоро ли откроют стадион?
- Часа через два.
- Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат-тренер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно.
Он достал из кармана тренировочных летних штанов Nike свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: "Дорогому тренеру от ученика детской спортивной школы Марселя".
Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:
- Ты что же, всю жизнь тренером?
- Почти всю.
- В АПЛ?
- Да.
- Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.
Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Еще немного помолчав, он заговорил:
- Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: "За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?" Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! - И вдруг спохватился: ласково подталкивая мальчишку, сказал: - Пойди, сынок, поиграйся возле стадиона, там для ребятишек всегда какая-нибудь забава найдется. Только, гляди, не разговаривай с чужими про трофеи и не подписывай никаких бумаг.
Но вот он, проводив глазами мальчишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.
- Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Страсбурга, тысяча девятьсот сорок девятого года рождения. Сначала окончил инженерный институт, потом работал там тренером. Оттуда занесла судьба меня в Японию, ишачил на азиатов. Вскорости пришел в «Арсенал». Хорошая попалась мне команда! Смирная, веселая, талантливая, угодливая и умница, не мне чета. Со стороны глядеть - не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивее и желанней ее, не было на свете и не будет! Проиграю матч, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово никто тебе не нагрубит в ответ. Ласковые ребята, тихие, не знают, где тебя усадить, бьются, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на них и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь всех, скажешь: "Прости, милая команда, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось". И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на стадион, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает - иметь умных игроков.
Вскорости новых людей в команду привел. Сначала сынишка Робин, через год еще две девочки... А тут вот она, война богатых АПЛ. Повестка мне на третий день пришла. Провожали меня все четверо моих: Сеск, Робин и дочери - Гаэля и Самира. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей - не без того, посверкивали слезинки. Робин только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый, год шел, а Сеск мой... Такой я его за все годы нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от его слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на него от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы растрепаны, а глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а он упал мне на грудь, руки на моей шее сцепил и весь дрожит, будто подрубленное дерево... И другие его уговаривают, и я, - ничего не помогает! Другие игроки между собой разговаривают, а мой прижался ко мне, как лист к ветке, и только весь дрожит, а слова вымолвить не может.
Я и говорю ему: "Возьми же себя в руки, милый мой! Скажи мне хоть слово на прощанье". Он и говорит, и за каждым словом всхлипывает: "Родненький мой... Арсенчик... не увидимся мы с тобой... больше... на этом... свете"...
Тут у самого от жалости к нему сердце на части разрывается, а тут он с такими словами. Должен бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял его руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня! была дурачья; он попятился, шага три ступнул назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ему: "Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!" Ну, опять обнял его, вижу, что он не в себе...
Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...
- Не надо, друг, не вспоминай! - тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом: -До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда его оттолкнул!..
<…>
…На третьей неделе получаю письмо из Лондона. Но пишет не Сеск, а славный соперник мой из Манчестера, сэр Александр. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что еще два года назад богатеи бомбили АПЛ, и одна тяжелая бомба попала прямо в мою команду. Сеск и дочери как раз были там... Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте команды - глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал.
Пишет Саша, что Робин во время бомбежки уцелел. Вернулся в команду, посмотрел на яму и куда-то ушел. Перед уходом сказал Саше, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.
Когда сердце разлезлось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставался со мною мой Сеск на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ему сердце, что больше не увидимся мы с ним на этом свете. А я его тогда оттолкнул... Была чемпионская команда, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: "Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?"
А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Сеском, и с другими разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем завоевывать трофеи... Значит, я семь лет с мертвыми разговаривал?!
Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:
- Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.
Мы закурили. Молчать было тяжело, и я спросил:
- Что же дальше?
- Дальше-то? - нехотя отозвался рассказчик. - Дальше вернулся я из боев, через неделю был в Лондоне. Пешком дотопал до места, где когда-то победно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал.
Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Робин. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от сэра Александра.
Оказывается, попал он поначалу в список топ бомбардиров АПЛ; там-то и пригодились его таланты к игре. Как ни крути, а мой родной сын - капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на "студебеккере" снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.
И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как сын мой трофей над головой поднимет, а потом я отдыхать буду и внучат тренировать. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны утром послал Робину письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к победе разными тропами, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну и свиделись... Аккурат перед стартом сезона, утром, забрал моего Робина мой же соперник, Саша...
Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с владельцами клуба на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и Робина в чужой красной футболке. А Робина вижу вот как тебя, браток. Подошел я к нему. Мой сын вроде, а вроде и не мой. Мой - это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут молодой, плечистый, красивый мужчина… Поцеловал я его и отошел в сторонку. Руководители клуба речь сказали. Товарищи-друзья по команде моего Робина слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..
Вернулся опять к своей работе. И вот один раз вижу возле базы этого парнишку, на другой день - опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в банановом пюре, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки - как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, и до того с мячиком резво играл, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу с работы поскорее его увидать. Около базы он и кормился - кто что даст.
На четвертый день подворачиваю к базе. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: "Эй, Лумумба! Садись скорее в машину, прокачу, а потом вернемся сюда, пообедаем". Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку Range Rover вскарабкался и тихо так говорит: "А вы откуда знаете, дядя, что меня Лумумбой зовут?" И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю. Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научилась вздыхать. Его ли это дело?
Опрашиваю: "Где же твой агент, Лумумба?" Шепчет: "Нет агента у меня". -"А команда?" -"Команды тоже нет". -"А родители?" -"Не знаю, не помню..." -"И никого у тебя тут родных нету?" -"Никого". -"Где же ты играешь?" -"А где придется".
Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: "Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети". И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: "Лумумба, а ты знаешь, кто я такой?" Он и спросил, как выдохнул: "Кто?" Я ему и говорю так же тихо: "Я - твой отец".
Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в салоне глушно: "Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!" Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, - побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на базу.
Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места.
Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Алишер в аккурат на базе был. Вошел я, моргаю ему обоими глазами, бодро так говорю: "Вот и нашел я своего Лумумбу! Принимайте нас, добрые люди!" Он сразу сообразил, в чем дело, засуетился, забегал. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, выпустили на поле. Алишер как глянул, с какой он жадностью и талантом играет, так и залился слезами. Стоит у бровки, плачет себе в дорогой костюм. Лумумба мой увидал, что он плачет, подбежал к нему, дергает его за брюки и говорит: "Дядя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле базы, тут всем радоваться надо, а вы плачете". А тому - подай бог, он еще пуще разливается, прямо-таки размок весь!
После тренировки повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на базу, машину отогнал на стоянку - и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандали и картуз из мочалки.
Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...
А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих бывших игроков дорогих во сне вижу. И все больше так, что я - за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону...
Разговариваю обо всем с Сеском, с дочерями, с Робином, и только хочу проволоку руками раздвинуть, они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни оха, ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...
Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:
- Прощай, браток, счастливо тебе!
- И тебе счастливо.
- Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к стадиону.
Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.
Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края ураганом борьбы в АПЛ невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который повзрослев сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его команда.
<…>
p.s. Читайте правильные книги
p.p.s. Вступайте в наш паблик, там мы пишем чаще



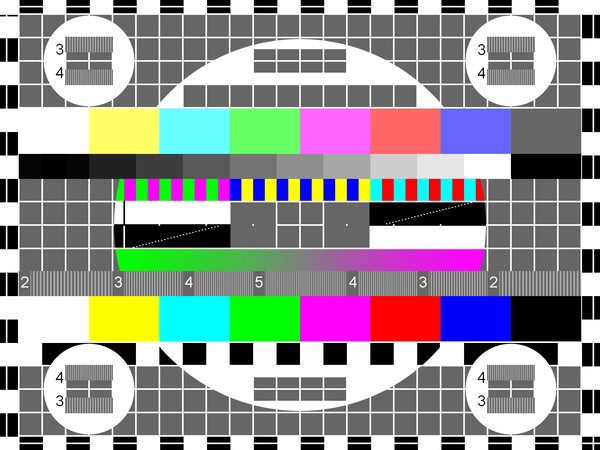




а прикольно представить, как Арсен купает Лумумбу в корыте
тяжело вздыхает, качая головой и уносясь мыслями куда-то далеко-далеко
в непролазную сельву Подсознания; долго молчит...]
:-))
:-)
Респект из Питера)