“Между двумя стульями”. Главный историк советского спорта объясняет, как можно этим заниматься

Я давно заметил, что, говоря о футболе, все время говорю о чем-то другом. Про музыку и девушек. Про политику и страх смерти. Лет 5 назад я встретил Боба Эдельмана, который написал пару книг о том, почему это так. Если очень коротко: все это имеет прямое отношение к ставкам на бойцовских петухов на острове Бали.
Это интервью записывалось с нескольких попыток в редакции sports.ru, по скайпу и в каком-то грузинском ресторане без вывески. Вопросы Эдельману задавал не только я, но и Юра Дудь, Ваня Калашников и социолог ВШЭ Олег Кильдюшов. Если кого-то интересует это же интервью в другой верстке и с кучей ссылок на правильные книжки - оно есть в Russian Sociological Review.
Самая главная спортивная книжка Боба Эдельмана - исследование о культурной истории московского “Спартака” сейчас переводится на русский язык, и выйдет в России в год чемпионата мира. Достаньте ее себе как-нибудь (не только потому, что мне, как редактору, обещали процент с продаж). Это действительно о футболе и обо всем остальном.
Вот, что говорил Эдельман.
***
- Вы начинали свою академическую карьеру как исследователь предреволюционной ситуации в России начала XX века. Как у Вас возник интерес к русской истории?
- В конце 1950-х — начале 1960-х годов мои родители, хотя и не были коммунистами, тем не менее симпатизировали Советскому Союзу. В то время в Америке было совсем немного специалистов по России, по ситуации в СССР. Я хотел заниматься именно этим и собирался стать журналистом. Уже в колледже стал подумывать о радиожурналистике, выбрал для себя междисциплинарный курс, социальные науки и историю. Тогда я был левым социал-демократом и определенно считал, что Маркс — хорошая точка отсчета для того, чтобы думать об устройстве мира.
Все время обучения в колледже — в 1962–1966 годах — моей мечтой было стать московским корреспондентом, работать на большую телерадиосеть. В СССР я впервые приехал в 1965-м, встретился здесь с репортерами ABC, NBC, CBS и был шокирован тем, что они, оказывается, не знают ни языка, ни местной культуры. Я к тому моменту провел уже много времени, изучая и то и другое. А они были просто отправлены в Москву, чтобы передавать новости. Так я выяснил, что можно получить назначение сюда, не будучи специалистом в вопросе.
Тем временем началась война во Вьетнаме. И многие люди, которых я очень уважал (включая моих родителей) считали ее ужасной ошибкой, преступлением. Мне стало очевидно, что большие компании не будут иметь дело с критикой этой войны, а альтернативы им тогда не было — ни National Public Radio, ни других крупных независимых медиа, которые есть сейчас. Возможно, случись все это сегодня, я бы все-таки стал журналистом, устроившись в одно из этих оппозиционных изданий.
А тогда я решил: что ж, буду изучать политические науки. Меня приняли в Колумбийский университет на соответствующий факультет. Но люди левых убеждений, которые были мне тогда интересны, были склонны больше изучать историю, нежели просто политологию. И с 1917 годом была ровно та же проблема — мы не хотели изучать то, как вы облажались со своей революцией (то, чем занимались политологи), — мы хотели как историки изучать ситуацию непосредственно перед революцией. В то время у меня был прекрасный профессор, левак, который говорил: «Они все время изучают нас, ищут способы противостоять нам своей левой риторикой. Что должны делать мы — так это учиться и изучать их». Мои первые исследования были посвящены дореволюционной политике, они были вполне марксистские по духу, но это была социальная история. Мы работали в традиции, которая подразумевала взгляд снизу вверх, а не сверху вниз, и искали в этой политике не обязательно «марксистский», но, что называется, «прогрессивный» элемент.
Конвенциональный марксизм не слишком хорош в том, что касается соприкосновения с проблемами культуры, из него сразу вылезают все эти формулы о том, что «этот роман демонстрирует определенное отношение буржуазии...» и так далее. Но мое время было уже временем новых левых. Они уже учитывали и социологию, и психологию. Прежде всего — Герберт Маркузе.
Маркузе на лекции
- Сильно ли на Вас повлиял Маркузе?
- И да и нет. Я ходил к нему на занятия в 1972-м, восхищался им. Он был невероятно умен, политически активен, выступал с прекрасными публичными речами. Мы все его обожали.
Вместе с тем он был классическим немецким профессором. Для него культура не имела ничего общего с популярной, массовой культурой: забудьте о своем Бобе Марли! И уж тем более забудьте о спорте! Помню, мы как-то звали его пойти с нами на баскетбол, посмотреть в деле Доктора Джея, который был очень хорош в то время. «Категорически нет, — ответил он. — А кто этот доктор Джей? Что он написал? Где преподает?» И, уж конечно, Маркузе никогда не пробовал курить траву.
Вторым значимым ученым из новых левых, известным своим уничижительным отношением к американской поп-культуре, был Адорно. Так он писал, например, о джазе. И даже те новые левые, что любили рок, траву и кино, все равно были очень подозрительны по отношению к спорту. Очевидным противоречием было то, что они, социалисты в теории, на практике были элитой. В политическом смысле это — чистое самоубийство. Во многих отношениях это было похоже на взгляды левых перед Первой мировой: «Что такое спорт? Зачем тратить на него время? Рабочим нужно тратить свои силы на классовую борьбу» и т. д. Они сами отваживали от себя возможную поддержку, когда писали о том, что люди, занимающиеся спортом, подавляют свою сексуальность, энергию — вместо того чтобы свободно ее использовать. В общем, я даже не буду продолжать. Им не нравились ни те, кто занимается спортом, ни те, кто смотрит спорт.
- Вы стали посещать СССР начиная с середины 1960-х. Когда именно у Вас возникла идея написать книгу о советском спорте?
- Все то время, что я жил здесь студентом, ходил на футбол, на другие соревнования, у меня не было мыслей о том, что это могло быть стать предметом моей научной карьеры. Не то чтобы я был как-то против этого. Я просто не мог себе этого представить. Сейчас я понимаю, что если бы думал тогда как антрополог — сидел бы, записывал, делал — моя книга могла бы быть гораздо богаче. Но я тогда этого не понимал.
Я помню советское время, когда приезжал сюда, когда у вас была «официальная культура» и «настоящая культура» (то есть диссидентская). Мы со стороны просто не понимали, что панорама еще шире. Я жил здесь, затем писал и думал об этом — и пришел к тому, что о советской эпохе можно думать и иначе. Для меня стало открытием, что существует такое понятие, как «советская массовая культура». Раньше мы считали, что в тоталитарном обществе такое невозможно. Что здесь Сталин просто перманентно показывает всем вам фильм об урожае, и вам это нравится. Я увидел другое — массовую культуру, полную противоречий. В свое время меня потрясло, что самыми популярными фильмами при Сталине были комедии: «Веселые ребята» и «Волга-Волга».
Конечно, была разница между капиталистической и социалистической массовыми культурами. Наша, западная массовая культура не несла в себе никакого политического урока, по крайней мере — прямого. Она не была дидактичной. А при коммунистах культура всегда должна чему-то учить. Отсюда возникает следующая проблема — если культура будет чересчур нравоучительна, то (изображает храп) — все уснут. Великая сила скуки. Таков был сложный баланс: если у тебя нет публики, твое политическое дело не будет успешным. Чтобы убедить человека в чем-то, его надо в этом заинтересовать.
И вот мы переносимся в 1980-е, когда я готовлюсь сделать этот шаг, думаю о том, чтобы стать «историком спорта». У меня все еще было много опасений, я считал это академическим самоубийством. Написать книгу о спорте — безумие! И я стал писать эссе на одну конференцию.
Как раз в это время я получил подписку на «Советский спорт», который приходил в США примерно с двухнедельным опозданием, а университет только-только установил огромную спутниковую тарелку ценой в 200 тысяч долларов. Она показывала советское телевидение, Первую программу. Для меня записывали игры, я забирал кассеты домой, ставил в видеомагнитофон, открывал блок пива и приступал к исследованию. Вот это было отлично. Единственное, что меня смущало, — я боялся, что какой-нибудь советский шпион следит за тем, как я все время таскаю домой кассеты с записями советского телевидения. И он наверняка не поверил бы мне, если б я сказал, что просто смотрел хоккей!
В 1989 году я прочитал доклад о своей работе в Университете Мичигана. Меня стали убеждать, что нужно делать из этого книгу. Тогда я решил для себя, что нужно изучить всю проблему в целом, через историю. Когда эта культура в СССР по-настоящему проявила себя? Моя гипотеза заключалась в том, что это случилось в 1930-е. В ходе исследования стало понятно, что скорее нужно говорить о конце 1940-х и 1950-х годах. Но и в 1930-е годы во всем этом была масса сложных политических оттенков.
Я искал систему, внутри которой эта картина будет иметь смысл, и обнаружил ее для себя в Бирмингемской школе культурных исследований.
- Ее основатель, Стюарт Холл, совсем не издан по-русски.
- Холл сам сказал именно то, что было необходимо услышать новым левым: «Как мы можем называть себя социалистами и при этом отрицать популярные культурные практики?» Они создали новые идеи вокруг народной культуры, в которой (даже в спорте) им удалось разыскать основы для некоторого сопротивления. Я использовал эти теории в своей работе.
Бирмингемская школа интересовалась идеями Грамши о культурной гегемонии. Это открыло для нас, специалистов в области спорта, какое-то окно (или дверь), через которое мы могли ходить. Нашей задачей было убедить других специалистов в важности спорта. И единственный маршрут лежал через архив. Нужно было использовать серьезные теории и доказать, что спорт помогает нам ответить на фундаментальные вопросы. И, надо сказать, он помог.
Многое в этом смысле для меня объясняет книга Виктории Де Грациа «Культура согласия: массовая организация досуга в фашистской Италии». Как раз то, о чем писал Грамши, — как авторитарный режим, не боявшийся использовать насилие, вовсе не испытывал необходимости постоянно его использовать. Он мог порождать и поддержку, и согласие.
- На кого Вы ориентировались, когда взялись заниматься историей спорта? Какие книги были для Вас образцом?
- Великими пионерами здесь были англичане. Первая по степени важности книга — «Спорт и британскость» Ричарда Холта. Он очень точно пишет, в том числе о гендерной стороне вопроса: «История спорта в Британии — это история мужчин». Речь идет о создании образа мужчины, о том, как женщин не пускали в спортивный мир. Как спорт внедрился в школы в середине XIX века и к чему впоследствии это привело.
Вторая важная книга — «Association Football and English Society» Тони Мэйсона. Очень практическая, очень четкая история самой игры. Также для меня были важны главы из книги Рэймонда Уильямса о телевидении, посвященные спорту. И, конечно, Пьер Бурдье, в той его части, где он писал про спорт. Он определенно принимал его всерьез и был среди тех интеллектуалов, что уделяли достойное внимание жизни тела с точки зрения социологии и культуры. Аллена Гуттмана я тоже читал, но он был скорее отрицательным примером. Для меня он не историк в настоящем смысле слова. Тем не менее он написал, кажется, обо всех существующих видах спорта.
Нужно упомянуть Джима Риордана с его книгой «Спорт в советском обществе». Он был коммунистом, писал больше о политических институтах, нежели о спортивной культуре. Книга в целом мне не очень нравится. Даже странно, ведь у него была хорошая литературная подготовка, и писать он умел!
Из представителей Лейстерской школы я с большим уважением отношусь к Норберту Элиасу, я цитировал его замечания о разнице между спортом и войной в предисловии к своей первой спортивной книге «Серьезная забава: история зрелищного спорта в СССР».
Конечно, много для меня значил Саймон Купер, написавший книгу «Футбол и его враги». Даже несмотря на то, что он не историк. Те, кого я читаю сейчас и кем восхищаюсь, — это определенно Дэвид Голдблатт, Крис Янг, Лоран Дюбуаи Николаус Катцер.
- В предисловии к книге о московском «Спартаке» Вы вспоминаете о символической антропологии Клиффорда Гирца, его известном рассуждении о том, что петушиные бои на Бали дают возможность их зрителям «рассказывать друг другу истории о самих себе». Каким образом эта мысль преломляется в Вашей работе?
- Когда я только начал заниматься спортивной темой, я думал в категориях «мы» и «они». «Спартак» и «Динамо». В процессе исследования я понял, что ситуация гораздо сложнее и не стоит искать слишком простого объяснения.
В 1950-е, в Нью-Йорке, точнее, в Бруклине, у нас была своя бейсбольная команда — «Доджерс». Сейчас они в Лос-Анджелесе. Вот, к слову, когда я стал социалистом: моя команда ушла из Бруклина искать большие деньги в Калифорнии в 1957 году! У нас было представление, что это команда «простых людей» из не очень богатого района. Они всегда были плохой командой, результатов у них не было. Но они первыми пригласили в команду афроамериканца, Джеки Робинсона, что было чрезвычайно важно для Америки того времени (как-то раз я пробовал сравнить Джеки Робинсона в «Доджерс» с Никитой Симоняном в «Спартаке» — первым форвардом неславянского происхождения в главной советской команде).
С другой стороны, были «Нью-Йорк Янкиз», команда для богатых. Если ты за «Янкиз» — значит, ты за General Motors. Хоть это и упрощение, конечно. Нужно уходить от бинарности. «Хорошие» и «плохие», «государство» и «общество». Что такое общество? У него очень много форм. И государство также не монолитно. Путь никогда не был единым. Много было способов быть советским, если говорить о людях вокруг футбола. Николай Старостин был советский человек. И Лаврентий Берия тоже. Хотя они были очень разными.
Но говоря об истории команд и их болельщиков, мы действительно можем говорить о мифах, о легендах, которые их окружают. «Истории о самих себе» — это как раз то, что было важно для Гирца. И важно для меня — какие истории окружают московский «Спартак»? Как воспринимают себя по отношению к команде болельщики «Динамо»? Такой я вижу символическую функцию спорта.
Конечно, очень сложно одновременно принимать во внимание научные результаты своих исследований и то, что курсирует в среде медиа, пишется или ретранслируется в среду болельщиков (или, наоборот, исходит от них — источник практически невозможно проследить). По сути, здесь мы имеем дело с ретроспективной этнографией. И зачастую мы сталкиваемся с необходимостью «проинтервьюировать» человека, который уже мертв, — а это довольно сложная задача. Но это как раз примерно то, что мы пытаемся делать.
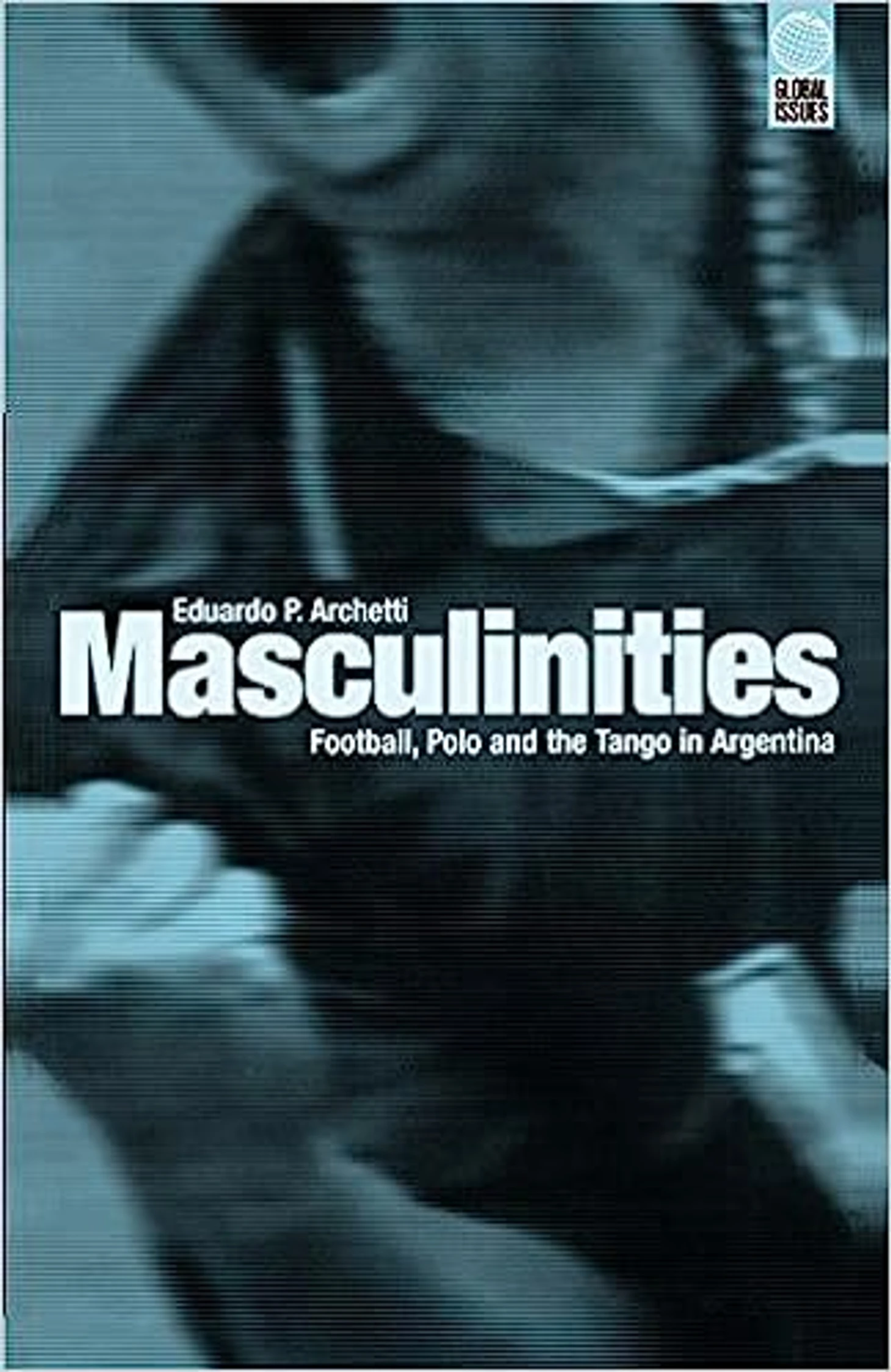
- Какая методология лучше всего подходит для занятия такими вещами — если принять во внимание, что иногда пива и кассеты в видеомагнитофоне недостаточно?
- Я уже говорил об Эдуардо Аркетти? К сожалению, он уже умер, совсем не старым, ему было чуть за 50. Он был социологом, антропологом, главная его книга называется «Стереотипы мужественности: футбол, поло и танго в Аргентине». Большую часть своего исследования Аркетти провел, сидя в кафе и разговаривая с людьми. Он был практиком. Каким в каком-то смысле был и Лев Филатов.
Чтобы разобраться в теоретических вопросах, хороша книжка Джона Хобермана «Спорт и политическая идеология». Она погружает во все основные перипетии истории вопроса, в том числе методологические.
- Вам никогда не казалось странным, что Вы, американец, стали главным в мире специалистом по истории советского спорта?
- А я вовсе не главный. Главный — Михаил Прозуменщиков. Он издал, по сути, единственную русскоязычную книгу по истории вопроса.
- Как Вы думаете, почему в России есть проблемы с признанием дисциплин, занимающихся социально-теоретическими исследованиями спорта, — такими как философия или социология спорта?
- Такие проблемы есть далеко не только в России. Один социолог как-то сформулировал это так: «Социолог спорта не интересен социологам, потому что они не интересуются спортом. А спортсмены не интересуются социологией». Так что, конечно, мы зачастую сидим между двумя стульями.
Что касается именно России, то я вижу в этом влияние традиционной русской интеллигенции, которая всегда была подчеркнуто равнодушна к жизни тела. Многим из этих прекрасных людей для коммуникации между мозгом и туловищем нужен был как минимум звонок по межгороду.






